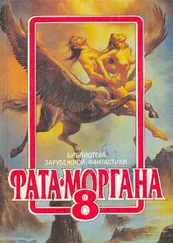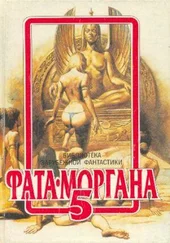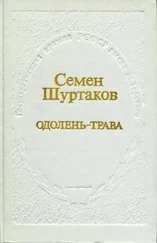— Тебя, Витя, словно подменили. В последнее время с тобой разговаривать стало невозможно: все вопросы, вопросы…
Маринка явно хитрит. Сказать нечего, вот и поэма неинтересная, и разговаривать невозможно.
— А может, ты все же ответишь, — настаиваю я, хотя и понимаю, что настаивать глупо, ни к чему.
— Да что отвечать-то. Ведь это когда-а было!
— Чем не ответ! Было и прошло, и нечего об этом поминать. Автомобилист, едущий через всю Францию, чтобы обнять любимую, — это тебя потрясло. А женщины, едущие через всю Россию, чтобы разделить тяжкую участь своих мужей, — это малоинтересно.
— Я не понимаю, что ты хочешь.
— Видишь ли, когда Некрасов так назвал свою поэму, я не думаю, что он хотел как-то обидеть или тем более унизить, скажем, француженок или англичанок. Я думаю, что он был интернационалист не меньше нас с тобой. Видимо, он просто хотел выделить, подчеркнуть какие-то черты именно русского характера, русской женщины. У французов и француженок есть что-то свое, отличающее их от русских, у англичан — свое. Ну и, как говорится, на здоровье. Это даже хорошо, что люди разных наций — разные.
— Что же плохо?
— Плохо, когда это «свое» начинает размываться, нивелироваться под мировые стандарты, а то и вовсе заменяться, вытесняться чужим.
— А как же тогда со слиянием наций в будущем?
Вот она, школьная постановка вопроса! Заучила формулу и с умным видом «встромляет» ее в разговор.
— Ну, во-первых, это дело далекого будущего. А во-вторых, слияние должно идти, наверное, через обогащение чужим, без отказа от своего, а не наоборот. А то уж больно бедными придем мы в это прекрасное далёко. Лучше будет, наверное, если сольются богатые, а не обнищавшие… Да и уж если ты так хорошо это заучила, то надо бы помнить, что единение наций должно идти через расцвет — заметь: не через угасание, а через расцвет — национального.
— А вот это я всегда представляла очень смутно…
Мне не нравилось, что Маринка своими дурацкими вопросами увела разговор куда-то в сторону. Но уж если ей непременно хочется показать свою ученость, я подниму брошенную ею перчатку.
— А мне так, наоборот, представляется очень ясно, очень конкретно: текут реки, сливаются друг с другом и образуют море.
— И все?
— И все.
— А как же тогда с расцветом? В море-то вода одинаковая.
— В Черном или Каспийском — да. Но то море будет немного отличаться от них… Помнишь, когда мы ехали по Военно-Грузинской дороге? Помнишь то место, где сливаются Арагва с Курой? Голубая Арагва уже влилась в темно-желтую Куру, но еще долго идет, не смешиваясь, ясной голубой струей… Так вот, мне думается, что и вода каждой реки, впадая в то море, будет сохранять свой особый вкус и цвет. Потому, что у каждой реки, у каждой нации — свой особый исток. У одной в горах, у другой на равнине, у третьей в лесах…
— А у тебя здорово получается, Витя, — признала Маринка. — Я что-то начинаю понимать.
Здорово получается не у меня, а у Владимира. Я лишь повторяю то, что слышал от него. Ну, не то чтобы повторяю, однако раньше у нас с тобой об этом вряд ли бы и разговор мог зайти.
— Ну, там здорово или нет, а только то море, или, говоря по-другому, общечеловеческая культура, станет богатым лишь в том случае, если каждая река будет нести свое, национальное, когда она будет питаться своими национальными истоками. И по дороге к морю той или другой реке вовсе не обязательно оглядываться на соседние или тем более подлаживаться под их течение. Бежит горная речонка вприпрыжку по камням-валунам — и пусть ее. А Волге-то лесной-степной зачем, глядя на нее, вприпрыжку — она же Волга — широка, глубока, сильна…
— Ну что ж, нам ничего не остается, как выпить за истоки!
Мне опять не понравилось, что Маринка только что сказанное восприняла на каком-то полусерьезе: молодец, Витя, давай выпьем, и все. А для меня это было важно и дорого потому, что я, может быть, впервые попытался самостоятельно осмыслить слышанное от Владимира. Так бывает, когда один композитор берет у другого тему и разрабатывает ее по-своему.
— В твоей морской картине, похоже, есть какой-то подтекст, но я его не совсем улавливаю. Кто на кого оглядывается и кто к кому подлаживается?
Мне уже не хотелось вести разговор в прежнем ключе. Маринка жаждет конкретности. Что ж!
— Мало ли кто оглядывается. А если недалеко ходить за примерами, скажем, не дальше Малаховки — прямо с тебя и можно начинать.
— Ого!
— Вот тебе и ого. Течешь-плывешь вроде бы Волгой, а оглядываешься на Сену. — Мне опять захотелось лениво развалившейся Маринке сказать что-то резкое. — Почему ты, русская женщина, не осмеливалась надеть русские сапоги, пока тебя на это не благословил Париж? Почему ты танцуешь шейк и хали-гали и поешь песни, написанные в тех же припадочных ритмах?
Читать дальше
![Семён Шуртаков Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] обложка книги](/books/84498/semen-shurtakov-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-pove-cover.webp)

![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)
![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/books/69192/vyacheslav-shishkov-hrenovinka-shutejnye-rasskazy-i-po-thumb.webp)