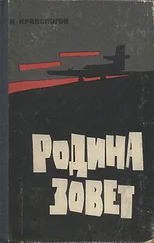Он метался на своей жидкой подстилке и до боли расчесывал заросшие щеки концом кнутовища.
В хуторе было тихо, пасмурно. Вдруг из-за Ковалевской балки донесся в ночной тишине тревожный гул тракторов, тот самый гул, который услышал Коплдунер в старом саду.
Хонця порывисто сел.
От ярких круглых фар ложились полосы бледного света, тянулись сюда, в хутор. Внезапно, перескочив через несколько хат, светлые полосы прильнули к Хонциной землянке.
Хонця поднялся с подстилки и словно впервые увидел свою лачужку. Подпертая с трех сторон толстыми кольями, она по самые окна вросла в землю, вот-вот провалится совсем; стены в трещинах и заплатах, в обоих крошечных оконцах не хватает стекол, из дыр торчит почернелая солома, а осевшая земляная крыша вся поросла полынью.
Вот оно, его добро, вот оно, все богатство, которое нажили четыре поколения Зеленовкеров! Стоит, как стояла полтора с лишним века, еще с екатерининских времен. Решил Довид-Бер, балаголэ из маленького местечка Балты, что под Одессой, бросить ненадежный извозный промысел, обеспечить себя и детей своих верным куском хлеба и переехал вместе с другими евреями переселенцами в таврическую степь. Трудились они не покладая рук, поднимали целину, поставили здесь свои землянки, раскорчевали заросшую густым бурьяном степь — потому и назвали свое поселение Бурьяновкой. Пахали, мотыжили, бороновали из рода в род, из поколения в поколение, и вот он, Хонця Зеленовкер, как его прадед Довид-Бер, балаголэ, живет в той же землянке и так же бедствует.
Быть может, сильнее, чем когда бы то ни было, представилась ему сейчас бесконечная нищета, в которой жили бурьяновские крестьяне, их отцы, деды и прадеды, все те, кто до последнего пота трудился на этой земле. И это здесь, в черноземных заднепровских степях, где так щедро греет солнце, так обильно поливают пашню теплые, грозовые дожди и земля так жирна, полна живительных соков — щедрый, плодородный украинский чернозем.
«На что пошел наш труд? — с горечью спрашивал себя Хонця. — На Оксманов, на Деревянко, на Березиных. Только такие и встали на ноги, нажились на чужой беде, на чужих слезах».
До революции хуторяне вечно были в долгу у казны- за хаты, за клуни, за колодцы, за пруд, за самые наделы. Долг этот переходил от дедов к отцам, от отцов к сыновьям. Сколько раз, бывало, наезжал в Бурьяновку урядник и вместе с Оксманом, со старостой, ходил по дворам, требуя уплаты недоимок. Продавали за четверть цены урожай и приплод от скота, и все равно подать оставалась невыплаченной. Тогда пристав, урядник и староста забирали в счет долга последнее, угоняли коров, разоряли жилища.
Потом пришла революция. Отменили подати и недоимки, прибавилось земли — бедняки вздохнули свободнее. Наконец-то начнется другая жизнь! Но не тут-то было. Пришли в хутора вильгельмовские солдаты, и по Мариупольскому шляху потянулись к Азовскому морю обозы с украинским хлебом и гурты скота, которые оккупанты отправляли на неметчину. Началась гражданская война, белогвардейщина, махновщина, пожары, погромы, грабежи. А потом, в двадцать первом и двадцать втором, — голод. Старый Рахмиэл еще по сей день не расплатился с Оксманом за горькую льняную макуху, которую тот доставлял в Бурьяновку из Мариуполя, — единственную пищу большинства хуторян в те годы. Для скота берегли каждый клочок соломы, повыдергали почти все стрехи, и все равно скоро в хуторе осталось всего три-четыре коровы — у того же Оксмана да у Березина.
Как был с кнутовищем в руках, Хонця вышел за калитку. Ему было невмоготу оставаться одному в своем тесном, заросшем дворе. «Заглянуть, что ли, к Хоме Траскуну. Может, еще не спит…» — подумал Хонця и пошел вверх по улице. Вот Элька его сегодня бранила, упрекала в бездеятельности. Но что мог он сделать, когда их тут всего два коммуниста на всю Бурьяновку, он да Хома, — оправдывался перед собой Хонця. Хутор только оправился после голода, советская власть помогла семенами, ссудами, во дворах замычали коровы, закудахтали куры, — вот хуторянин и держится за свое хозяйство, трясется над своим добром.
Бурьяновка лежала у подножия пологого песчаного холма. Широченная деревенская улица вилась сперва низом, потом вскидывалась на поросший чабрецом бугор на краю хутора и спускалась к выгону. Хонця шел стежкой вдоль палисадников. Ветер поддувал рубаху, подол завернулся, обнажив худое тело.
Около засохшей шелковицы напротив двора Хомы Траскуна он остановился. Здесь, подле этой шелковицы — тогда еще ее ветви были покрыты зеленой листвой — они с Хомой расстреляли махновца, который повесил брата Хомы.
Читать дальше