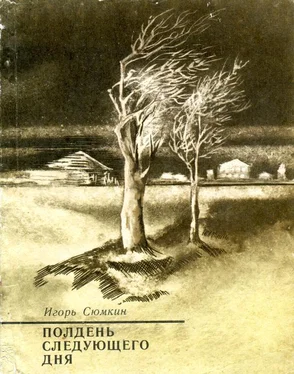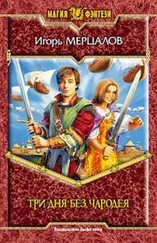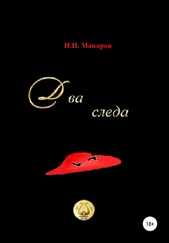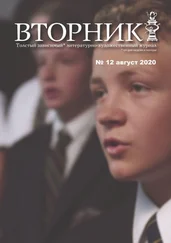В предпоследний день Юрис Карлович принес-таки на погляд один из рекомендованных мной номеров «Подвига» и долго, назойливо не выпускал его из рук. А зачем? Что за надобность была ему в реабилитации, если знали оба, что никогда больше не встретимся и печалиться о том не станем? Когда Юрис Карлович вышел за спичками, я глянула на лист возврата: журнал надо было возвратить лишь через две недели — именно на такой срок они там и выдавались. Чудак! Уверена, что час спустя он с легким сердцем сдал журнал, так ни строчки и не прочитав.
Впрочем, при всех странностях Юрис Карлович был ровен, незлоблив и, как бы там ни было, он — единственный из мужчин, кто, пусть и небескорыстно, но по-своему меня пожалел. Как признательна была я потом его мужской непритязательности и нечрезмерной нравственности, благодаря которым и появился сынишка…
Я назвала его Марьяном.
Почему?
Дочку мне хотелось — Маришу, потому сгоряча и назвала так. И величала ведь больше Маришей. Сначала шутя в дочку играла, а дальше в привычку вошло. Сынишке это девчоночье имя не нравилось, он предпочитал зваться Мариком. А хулиганье двора «Марьей Припадошной» его окрестило. Как тут было на мать не обижаться? Ему, дурачку, за другое бы на меня обижаться, не за имя…
Мариша и сейчас глядит на меня исподлобья, капризно надув без того пухлые, безвольные губы.
«Зачем пришла? Без тебя тошно!» — мерещится мне в немигающих, неустающих глазах.
Как обычно, не выдерживая его взгляда, поспешно удираю глазами на блестящую, четко высеченную округлой прописью надпись под фотографией: Ковалев Марьян Юрисович. 1965—1977 гг. Больше года уже прошло. Больше года… Эпилепсия у Мариши была наследственная. Моя… Потому и не советовали мне рожать. Врачи, родные, знакомые… Не дико ли: женщине не рожать! Но они ведь не зла мне желали…
Положив в изголовье могилы с десяток любимых Маришей «каракумов», сажусь на скамейку у входа в оградку и заставляю себя в суровые глаза сынишки не глядеть. Сразу начинает захлестывать то, что принято называть мыслями. Умное, однако, название носит тот вздор, ибо я отмечаю: хорошо, что сегодня среда и на кладбище нелюдно. И вечер погож, значит, можно побыть с Маришей вволю. Хорошо, что есть теперь в оградке скамейка и не надо больше брать сюда из дома табурет. Не так уж и мало, оказывается, этих «хорошо» у немолодой женщины, потерявшей год с небольшим назад единственного сына. Относительно скамейки «хорошо» под особым сомненьем. Поставил ее в Маришиной оградке человек, который… Как бы это сказать поточнее? Не убивший, нет… Оборвавший жизнь моего сына. Пожалуй, так…
Искоса, украдкой, хотя видеть мой взгляд Мариша не может, всматриваюсь снова в его глаза на фото и снова, кажется мне, читаю в них недоброе:
«Зачем рожала? Ведь предупреждали тебя врачи, серьезно предупреждали. Эгоистка ты, и больше никто! Эгоистка!»
«Ну, не каменная же я, Маришенька, живая… Встал бы ты на мое место! Ведь в самом деле дико это: женщине не рожать… Вся радость в тебе была, думала, обойдется…» — невольно начинаю я оправдываться перед ним.
«А со скамейкой как? Кто ее здесь поставил?»
«Не просила, не просила ведь я, Маришенька, сам он… Не назло же старался?» — защищаю я Виктора.
«Вон как заговорила… Скамейкой тебя купил? Не забыла ли, где она стоит?» — мечут недвижимые Маришины глаза беспощадные упреки.
«Но ты же знаешь, что не виноват он, припадок у тебя случился… И дорогу ты в неположенном месте перебегал. Я, я во всем виновата! Категорически ведь рожать тебя запрещали…»
«А если не виноват, что ж они тогда нагрянули к тебе после суда всей семьей?» — не иссякают и не иссякают жуткие Маришины вопросы.
«Ну так после же, а не до…» — собираюсь я ответить на это, но до меня, наконец, доходит, что, несмотря на всю болезненную взбалмошность и избалованность, он никогда не был жестоким, и спохватываюсь: опять сама с собой разговариваю…
А Виктор с семьей, действительно, заходили ко мне недели через две после суда. Истица и ответчик — два слова, незримо и бессмысленно нас связывавшие. Бессмысленно потому, что потеря моя была невосполнима, а ему не за что было передо мной отвечать.
— Здравствуйте… Можно к вам? — неуверенно улыбаясь, спросила с порога молодая, утомленного вида, большеглазая женщина (пожалуй, глаза только казались большими из-за сильной худобы лица) с годовалым, примерно, ребенком на руках. За нею высился всей громадой Виктор.
Я понятия не имела, как быть: медлила, не отвечая на приветствие, не приглашая войти, и проклинала свою топорную необходительность, видя их смущенье.
Читать дальше