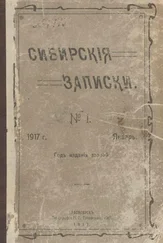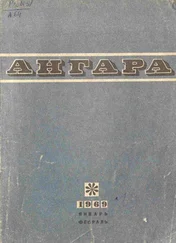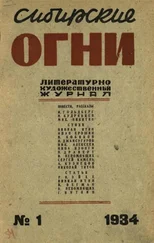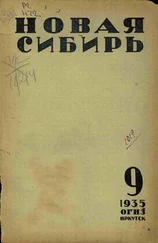Когда пришли за ним мужики и велели собираться в путь-дорогу, лицо у него было бледное, с припухнувшими, покрасневшими глазами. Он кинулся навстречу пришедшим и хрипло, с надрывом попросил:
— Дайте мне наган мой!.. Ради создателя дайте!..
Мужики взглянули на него насмешливо:
— Сдурел, паря? Рестованному полагается разве оружье?
— Ах да поймите!.. — прижал Канабеевский руки к груди. — Поймите — мне для себя... Ну, тогда сами пристрелите!.. Сами!..
Мужики нахмурились. Задвигались. Переглянулись. Макар Иннокентьевич простер руку вперед, ткнул пальцем в сторону поручика и наставительно-сурово сказал:
— Не балуй!.. Об жизни своей не хлопочи, не беспокойся! Об ей начальство похлопочет!..
— Не хлопочи! — подхватили другие. — Пошто преждевременно раззоряешься?!.
— Кому следоват, те и рассудят по правильному... Обряжайся в дорогу!..
— Ишь, солнце-то уж где!..
Канабеевскому притащили все его имущество, бросили возле него. Глядели, как он одевался, укутывался, обряжался в путь-дорогу.
Канабеевский не глядел на мужиков. На щеке вздрагивала у него какая-то жилка. Вздрагивала зря, безудержно, и не было сил сдержать ее, остановить.
Мужики внимательно следили за поручиком, словно ни весть как интересовало их, как одевается человек дорожный, готовясь из полутемной бани выбраться на морозный утренний воздух, чтоб усесться поудобней в низенькие нарточки и отдаться дальней, молчаливой дороге.
— Ну, — сказал кто-то, когда Канабеевский затянул на себе кушак. — Ну, с богом!.. Валяйте, мужики, на улицу!
— Выходи, паря! Не задорживайся!..
Канабеевский пошел. В дверях приостановился, сжал челюсти: жилка прыгнула быстрее. С трудом разжимая губы, напоследок сказал:
— Милости у вас просил... Бесчувственные вы... Не люди — звери...
Мужики молчали...
Так поехал Канабеевский, Вячеслав Петрович, поручик, из Варнацка, где скучно зимовал он.
Ехал опустошенный, пришибленный, нищий. И вместо сокровищ (черно-бурые лисицы — темные, как ночь, соболя, мягкая, пушистая рухлядь) повез он отсюда обжегшую его ужасом и мелким, неотвязным чувством липкой, несмываемой гадливости болезнь.
А навстречу...
А навстречу, там, где-то по ту сторону Бело-Ключинского, сверху, в зверином лесном беспорядке двигались красные партизаны. На них клочьями, обрывками висела изношенная, плохогреющая одежда. На щеках, на носах у них коричневыми пятнами лежали морозные поцелуи — до крови, до мяса.
Их красные знамена-значки истрепались, исполоскались под пургами, под хиусами, под морозом. Их красные знамена с просвечивающимися ранами гнулись под вьюгами, гнулись, но ползли, ползли вперед.
Порою они пели. И эти песни, которые хрипло рвались из простуженных глоток, будили сторожкую тишину тайги.
Они двигались безудержно, неотвратимо, как судьба.
И крепнущее предвесеннее солнце просыпало на них косые сверкающие лучи свои.