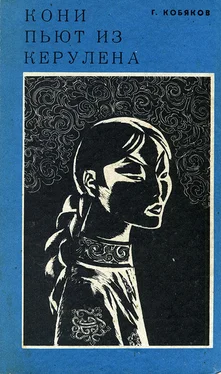Она прискакала в поселок, скатилась с коня и влетела в юрту к Жамбалу. Увидела Максимку, мирно посапывающего в кроватке, опустилась на перевернутую корзину, покрытую старой овчиной.
— Успокойся, Алтан, — сказал Жамбал, — очередная самурайская провокация. В Улан-Баторе и в Чите, а может в самой Москве сегодня разберутся, что скрывается за этим нарушением.
Помолчав немного, добавил со злостью:
— Принюхиваются, сволочи!
…Вот она какая — тишина на границе.
В эту ночь Алтан-Цэцэг приснился жуткий сон. В нем увидела все, что было когда-то наяву.
…Знойное лето тысяча девятьсот тридцать девятого года. Полевой госпиталь в Тамцак-Булаке. В большой брезентовой палатке, где лежали послеоперационные больные, один уголок был отгорожен ширмой. Там, за ширмой, лежал, как говорят медики, нетранспортабельный — командир взвода из бронедивизиона восьмой кавалерийской дивизии Очир. У Очира были ампутированы руки и ноги.
Алтан-Цэцэг каждое утро заходила к Очиру, чтобы поправить подушку, одеяло или почитать книжку. Вечерами, когда пела, ширму открывали и Алтан-Цэцэг видела печальные глаза Очира, белое, без кровинки лицо и рассыпанные по белой подушке волосы, похожие на черный крученый шелк.
Очир все ждал приезда кого-го из родственников, чтобы увезли его в степь. «А как же он будет в степи, — думала Алтан-Цэцэг и у нее сжималось сердце от жалости и сострадания, — ни на коне скакать, ни очаг протопить, на овец загнать…».
В один из дней Алтан-Цэцэг зашла в палатку и не увидела ни ширмы, ни Очира. Его будто и не было никогда. В уголке стояла свободная кровать, застеленная чистым бельем.
— Где Очир? — шепотом спросила Алтан-Цэцэг цирика, который лежал около самой ширмы. Цирик не ответил, он словно и не слышал вопроса.
— Где Очир? — спросила у другого раненого, но он тоже не ответил. Поглядел на Алтан-Цэцэг и отвернулся.
— Очира увезли? — почему-то закричала Алтан-Цэцэг.
Медицинская сестра схватила Алтан-Цэцэг за руку и быстро вывела из палатки.
— Не кричи, пожалуйста, — сказала она и жестко добавила — Нет больше Очира.
…И вот та же госпитальная палатка, та же ширма в уголке, тот же живой человеческий обрубок. Но на белой подушке рассыпаны белые, похожие на ковыль, волосы. Алтан-Цэцэг знает: Очира нет, его увезли! Но кто же на его месте? Она делает шаг, другой и цепенеет: из-за ширмы печальными синими глазами на нее глядит… Максим. И тихо, чьим-то чужим голосом, говорит:
— Год теперь — тысяча девятьсот сорок второй. А меня скоро отсюда увезут.
…Алтан-Цэцэг проснулась в липком холодном поту.
И несколько дней потом, за какое бы дело ни бралась, — все валилось из рук.
Бухгалтер Гомбо, тот самый, у которого голова похожа на посудину из-под воды, тот самый, который не один зимний вечер настойчиво протаптывал тропинку вокруг юрты Тулги и за это получил нелестное прозвище Злого духа, в последние майские дни заспешил с решением «важного жизненного вопроса». Спешка эта была вызвана окончанием учебного года в школе и предстоящим отъездом Тулги в Улан-Батор.
_ «А это значит, — рассудил Гомбо, — Тулгу, которую он считал своей невестой и которую всевышний не обидел ни красотой ни умом, столичные хваты запросто могут увести. И останешься ты тогда с носом…».
Всегда окруженная поклонниками, Тулга выработала в себе то усмешливое выражение, когда не поймешь: смеется ли человек, шутит или на полном серьезе ведет разговор. Поняв, что бухгалтер Гомбо один из тех, которые ежедневно записывают в специальный блокнот свои расходы на обед, на ужин, на носовые платки, из тех, которые при случае любят пофилософствовать о жизни и ее практической стороне, — Тулга откровенно смеялась над ним. А Гомбо ничего не замечал, словно глаза его были в шорах. Придет вечером — осмелел в последнее время, — сядет на кошму и, прихлебывая чай из пиалы, начинает разглогольствовать о… качествах невесты. При этом бросает на Тулгу жадные взгляды.
— Если бы ты не была учительницей, если бы дети и их родители не уважали тебя, то я бы еще подумал: ухаживать за тобой или не ухаживать. Сейчас я ухаживаю и имею самые серьезные намерения — жениться на тебе. Почему? Потому, что знаю: ты умеешь воспитывать детей, значит, и сама будешь положительной матерью.
— А любимой?
— Главное матерью. Любовь — эго из области поэзии, а я говорю о практической стороне вопроса. И стишки тут всякие никакого значения не имеют.
— Мне лестно слушать все это, — говорила Тулга, — но в се-таки хочется узнать: как же с любовью-то, со стишками?
Читать дальше