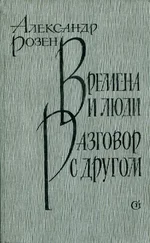Ни до, ни после я так не голодал, как в гостях у Марии Николаевны. За два дня мы без труда съели весь запас продовольствия, который полагался мне на неделю. Личный вклад Марии Николаевны в наш ежедневный рацион был очень небольшим. Затем… ну затем на тощеньком огороде была снята редиска, а затем… К концу недели на дачу приехал Жорж, двоюродный племянник Марии Николаевны или что-то в этом роде, и привез нам десяток яиц и немного хлеба. После яичницы меня быстро потянуло ко сну, я ушел к себе наверх и сквозь сон слышал, как Мария Николаевна противным, ноющим голосом выканючивала у Жоржа еду.
И все-таки мне здесь нравилось. В нашей полуразвалившейся даче (хижине, как я быстро ее окрестил) то тут, то там я находил обломки старых сокровищ: то кусок старинной парчи, то молитвенник, помеченный семнадцатым веком, то старинную китайскую фигурку из мыльного камня. Эти вещи исчезали так же внезапно, как и появлялись. И это тоже будоражило мое воображение.
Наша хижина отнюдь не стояла на берегу моря, но его движение я слышал всегда — иногда шорохи, иногда суровый треск. Моя комната во втором этаже напоминала мне отважный ботик на крупной океанской волне, утром я облизывал совершенно соленые губы, и каждый раз, когда я спускался по лесенке, мне казалось, что мы накануне кораблекрушения.
Но главным в моей новой жизни была необыкновенная свобода. В Аракчеевке я был под постоянным присмотром, в результате обменных операций я становился как бы пленником деревни, на выговоренных мамой условиях меня кормили, поили и пасли. Последнее было хуже всего. Здесь и день и ночь я дышал самой неограниченной свободой. По-видимому, это обстоятельство немаловажное: несмотря на голодный режиу, я быстро вытянулся и, как утверждала мама, отнюдь не похудел.
Мама приезжала по субботам и оставалась на воскресенье. Мы с Марией Николаевной вели себя интеллигентно, расспрашивали о делах в Первой музыкальной школе и ели пшенную кашу так, словно ничего необычного в этом для нас не было. Мама недолго шепталась с Марией Николаевной, и я был совершенно спокоен: на свободного человека куда труднее наклепать, нежели на пленного.
За понедельник и вторник мы съедали наши запасы и с трудом тянули до приезда Жоржа. Мария Николаевна плакала, в страшных красках рисуя перед Жоржем нашу судьбу, и равнодушно зевала на следующий день, когда выяснялось, что исчезла редкая книга, или гравюра, или еще что-нибудь из профессорского наследства. Незыблемыми были только старинные миниатюры, висевшие над диваном. Целая коллекция важных стариков в мундирах, с брильянтовыми крестиками и звездами, и матово-бледных красавиц с оголенными плечами. Больше всех мне нравилась маленькая черкешенка, единственная, как мне казалось, среди всех, сочувственно на меня смотревшая.
Я уходил из дому рано утром, каждый раз меняя маршрут, но обязательно с тем расчетом, чтобы к полудню быть у моря, купался, валялся на песке, потом бродил по берегу и уже в конце июня порядком освоил его. К великой моей гордости, меня уже дважды останавливал пограничный патруль, и один раз красноармеец в буденовке и с винтовкой на ремне потребовал от меня «документы».
— Да ведь он еще пацан, — сказал его товарищ, но тот, в буденовке и с винтовкой, сердито нахмурил выгоревшие на солнце брови.
— Нельзя, — сказал он мне. — Понял? Запрещено. Граница.
О том, что эти красноармейцы пограничники, я узнал от Жоржа.
— Не шляйся, заберут, — сказал Жорж зевая. — Где они тебя задержали, у речки?
— Я речку переплыл… — соврал я, инстинктивно чувствуя, что так легче попасть в герои.
— Дурак набитый, — сказал Жорж убежденно. — Граница по речке. Они бы тебя подстрелили.
— Стреляли, — сказал я, подхлестнутый своим упрямым воображением. — Промахнулись.
— Тетечка, — сказал Жорж, снова зевая, — займемся нашими делами.
Не знаю, чт о у них были за дела. В тот вечер, забравшись к себе наверх, я долго и тщательно изучал карту и никакой границы вблизи Петрограда на этой старой карте, разумеется, не обнаружил. Ну хорошо, рассуждал я, пусть Жорж кое-что сочиняет (в конце концов, и в моем рассказе не все было правдой), но факт остается фактом: меня остановили два красноармейца, и остановили недалеко от речки.
Через день я снова, и вполне сознательно, нарушил пограничный режим. На этот раз красноармеец в буденовке решил, что меня надо проучить. Он больно взял меня за локоть и сказал:
— А ну-ка, пойдем со мной. («Расстрел», — подумал я, чувствуя какой-то еще ни разу не испытанный блаженный страх.)
Читать дальше
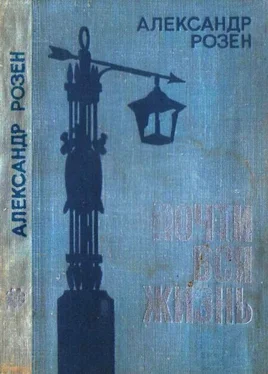
![Александр Карнишин - Вся наша жизнь [Сборник; СИ]](/books/27651/aleksandr-karnishin-vsya-nasha-zhizn-sbornik-si-thumb.webp)