В этом месте речи Петька так двинул стулом, что тот слетел со сцены и с грохотом брякнулся в оркестр. Спокойствия петькиного как не бывало. Шевелюра его запрыгала на каждой фразе как тряский тарантас на ухабах, пуговицы ворота под напором вздувшейся потной шеи лопнули, и ворот рубахи расстегнулся. Казалось он совсем забыл, где он находится, и вообразил себя в прокуренной комнатушке коллектива, где ведет он горячий спор один на один с Гришкой Светловым.
— Скажи ты мне, скажи, какие ты конкретные обвинения выдвигаешь против нас? Какие уклоны видишь ты в комсомольской работе? Кроме перегрузки молодежи, никаких! Больше ни одного пункта обвинения, кроме любовного, о котором я уже наговорился до тошноты, нет в твоей истерике. Да и этот пункт о перегрузке ты, братец, не из головы выдумал, а у нас же в коллективе от своей же комсомольской братии, на тех же заседаниях бюро стащил. Но мы говорили об этом по-деловому, а ты нагнал паники и испугу. И ведь хоть бы ты что-нибудь новое указал, так и этого нет. Ты даже не показал, что больше нашего знаешь о наших недостатках. Я говорю не о криках, а о практических указаниях. И почему ты не пришел нам сказать о наших недостатках, когда работал с нами? Почему ты носил их за своей чертовой улыбочкой, почему ты теперь прибежал сюда голосить о них истошным голосом?
Ты не отвечаешь мне. Ты никогда мне не ответишь. Я тебе сам отвечу — почему. Потому что тебе нет никакого дела до недостатков комсомольской работы, до путей советской общественности. Если ты и вспомнил о них, то просто так, к случаю, когда обнаружилось, что тебе это нужно для твоего собственного оправдания перед самим собой. Я вижу тебя насквозь, я вижу твою злую, гордую душонку. Самое большое, что ей нужно — это обязательно и всегда быть правой. На остальное наплевать.
Ты нам рассказывал час тому назад трогательную историю о том, как ты воскрес, узнав, что, может, не ты, а другой виновен в этом гнусном деле. Это воскресение пришло не от того, что с тебя свалилось клеймо убийцы, нет, ты сам сказал, что при случае можешь стать убийцей. Ты воскрес оттого, что ты вдруг оказался правым и, так сказать, безвинно страдающим, а виноват кто-то другой. Вот что для тебя всего дороже. Из-за этого стремления быть правым во что бы то ни стало ты тут на суде устраиваешь свой тарарам.
Мы скроены иначе, чем ты. Нас такие тонкие ощущения не соблазняют. Да. Мы умеем быть правыми и умеем быть неправыми. Мы знаем, что мы, комсомольцы, во многом ошибаемся, мы знаем, что многое мы понимаем, может, и не совсем верно, многое понимаем слишком прямо, пусть слишком в лоб.
Да, мы это признаем, имеем смелость признать. Но мы знаем и то, что наша правда — это кровная правда, которую на базаре не купишь, которую из головы не выдумаешь. Ты свою правду, принесенную сюда, выдумал два месяца тому назад и выдумал ее для себя, для оправдания своей злобы и каких-то своих собственных хитросплетений, а нашей правде тысячи лет. Наша правда купалась в крови, маячила на баррикадах, мылась в поту рабочем, и сейчас, в эту минуту, когда барич Гришка устраивает нам истерику, где-нибудь в Шанхае китаец-текстильщик, стоящий у станка двенадцать, а может быть и четырнадцать часов без отдыха, кует, копит, оттачивает свою правду, нашу правду, правду класса-бойца, правду, могущую послужить оружием борьбы да человеческое счастье, за раскрепощение человека, человеческой личности, о которой ты лепечешь задиристо, но без толку.
Это не чета твоей правдишке, которая стряпается наспех для собственного самоублаготворения, которая выискивается в своих потрохах как вошь в складках рубахи. Твоей правде грош цена в базарный день, и тебе не пропихнуть ее к нам ни в какие щели. Этот номер, товарищ, не пройдет. У нас не найдется такой щели, в которую тебе удалось бы протискаться со своей правдишкой. Мы стоим плотной стеной, хоть ты и пытался доказать, что между нами вот такие дыры, что комсомол это одно, а комсомолец это другое, что мы плохо печемся о своих комсомольцах, не знаем, сколько он пьет и ест и кого любит. Ересь, брат, чистая ересь. Скажи-ка, не я ли тебя, дьявола, сам отвозил в больницу вместе с отсекром, когда ты заболел? Ты говорил, что с Гневашевой никто слова не сказал о ее горестях, и тут ошибся. Говорили, брат, только ты этого не знаешь. Проглядел. А гражданская война? Кто бывал, те знают, как умирали коммунары и комсомольцы, как крепко стояли каждый за каждого и все за свое дело. Ересь, брат, порешь. Комсомольское и комсомольцы это одно. То, что во всех живет, живет и в каждом, и напрасно, брат, ты разливаешься о том, что мировые масштабы нам глаза застят, что за ними мы своих ребят не видим и их человеческих потребностей не разумеем. Твой кривой глаз опять сыграл с тобой плохую шутку. Не понял ты самого главного: не понял того, что в бурю даже камень, лежавший сто лет, может вдруг полететь как птица; что если буря уж очень сильна, так, гляди, и целый дом, который уж совсем не приспособлен к тому, чтобы двигаться, и тот может сорваться с места и помчаться вслед урагану.
Читать дальше







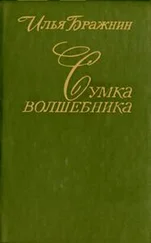
![Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/433258/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik-thumb.webp)
