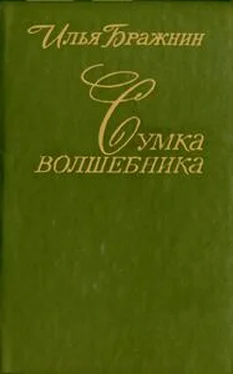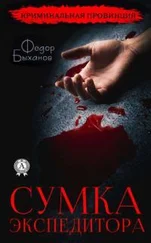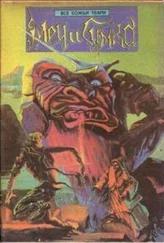Илья Бражнин
Сумка волшебника
Разговор по душам, или признания старого мастера
Предисловие к первому изданию
Лет тридцать — сорок назад, сверстники мои это помнят, высказывались опасения, что самое доступное из всех искусств — искусство кино в развитии своём нанесёт ущерб литературе, оттеснит её именно в силу своей доступности. Напрасные опасения! Ни бурное развитие кино, ни позднейшее столь же бурное развитие телевидения не разорвали особую связь человека с книгой, не ограничили в нашей внутренней жизни долю той ни с чем не сравнимой радости, которую даёт нам слово, образное, впечатляющее, богатое смыслом. Эта связь всегда один на один, как любовь, — да, она подобна любви! Духовный мир писателя вступает в некое единство (а, впрочем, иногда и в противоречие) с духовным миром человека, раскрывшего книгу, вновь и вновь, всякий раз в ином, особом качестве, как бы воссоздаётся творческий процесс, вернее, его отражение, его эхо.
Вот почему первые же строчки в новом произведении Ильи Бражнина звучат так: «Книга — это чудо. Максим Горький считал даже, что это величайшее из всех чудес, какие созданы человечеством».
Любовь к художественной литературе влечёт за собой широкий интерес и к самому писательскому труду. О, как важно доискаться прочитавшему, допустим, роман, откуда взялся в нём тот или иной человеческий образ! Что непосредственно подсказала сама жизнь, что создал домысел и по каким законам они синтезируются — жизнь и домысел? Да не перечесть всех «почему», «как», «откуда», возникающих из желания глубже заглянуть в самый механизм создания писателем книги!
Кто же может дать ответ? Пусть не обидится на меня украшенный учёной степенью литературовед, умудрённый знанием философии искусства и психологии творчества, — его ответы будут интересны и ценны содержащимися в них обобщениями, но в основе-то их всегда будут лежать признания тех, кто сам создаёт книги. Да, здесь первое слово им, мастерам. Как бы они ни были субъективны, как бы ни сбивались иногда в выводах, выявляя второстепенное в своём самоанализе и обходя главное, решающее, простим им: они обладают гораздо более ценным — опытом. Литература для них не предмет изучения, а форма их жизнедеятельности, сама их жизнь.
И вот — «Сумка волшебника». О чем она? Что это за повествование по своим жанровым признакам и по содержанию своему? Ведь всякую новую для нас книгу мы, непроизвольно для самих себя, относим к какому-либо известному нам литературному жанру. Не из педантизма, разумеется, но только вследствие естественного желания сразу же подобрать к произведению ключ, потому что с одним чувством, в одном душевном настрое мы читаем, допустим приключенческий роман и в другом — документальную повесть. «Сумка волшебника» — произведение, непривычное по жанру. Оно представляет собой некий сплав из воспоминаний автора, относящихся к разным периодам его жизни, с литературоведческими исследованиями; здесь и наблюдения над жизнью, и анализ черновой работы Пушкина над письмом Татьяны — любимой его героини. Следом идут границы, посвящённые Отечественной войне, нелёгкому труду военного корреспондента, и тут же история одного неудавшегося романа — неудавшегося по собственному авторскому признанию, с подробным объяснением причин, почему так случилось Казалось бы, сочетание самого различного материала в одном повествовании может смутить. Но нет оснований для беспокойства Материал в «Сумке волшебника» подчинён одной цели: хотя бы частью раскрыть некоторые секреты литературного мастерства, хотя бы на шаг приблизиться к пониманию того, какие обстоятельства и каким образом формируют писательскую душу, обуславливают его труд.
Ещё раз подчёркиваю: Бражнин не учёный-исследователь, а писатель, художник, мастер слова. И система его доказательств — это система, присущая именно художнику, а не исследователю. Мы подчас не находим в его повествовании чётко сформулированных логических выводов, тем не менее выводы есть, только они возникают у нас иначе — ассоциативным путём, из самого сцепления образов, по особой художнической логике.
Мать-труженица, шляпница-мастерица, лишённая возможности оторваться от своего рабочего стола, вырваться на простор летних лугов, лицом зарывается в охапки полевых цветов, принесённых сыновьями, — откуда этот образ, овеянный любовью и восхищением? В литературном произведении ничего не может быть просто так. При чем здесь этот персонаж? А при том — так чувствую, так догадываюсь я, читая книгу, — что в душе подростка, ставшего через годы писателем, минута эта, видение это оставило глубокий след. Он, мальчик, стал в эту минуту и добрее, и человечнее, и отзывчивее к прекрасному. Люди, в детские годы которых случались такие удивительные минуты, вовсе не обязательно должны вырастать художниками (в широком смысле слова), но убеждён, что у каждого человека искусства в прошлом непременно бывало такое, и вот подобные-то обстоятельства, которые нет возможности проследить до конца, и помогали формированию творческих начал его личности.
Читать дальше