Сам направился в красный уголок. Там гулко было — много народу набилось. Доярки с криками, перебивая друг дружку, кинулись к нему. Он сначала никак не мог взять в толк, что они говорят и чего они хотят от него, когда уяснил, сказал:
— Хорошо, хорошо, разберусь.
Вышел на крыльцо, потер лоб, почему-то страшно болели виски, не напекло ли солнцем. «Да, да, — думал Алтынов по пути в сторожку, — надо позвонить Сергею Мокеевичу, в случае чего Антонову самолетом в областную больницу. И надо попросить еще машин на вывозку торфа».
И звонил, и разговаривал с первым секретарем рай-кома, все еще не осмыслив полностью случившегося, все делал правильно, говорил дельное, но ощущение, что будто бы он сам сорвался и летит в пропасть, не покидало его.
Шум в красном уголке, где установлен был телевизор, давно затих, на кухне погасли поздние огни. Казалось, можно было наконец и отдохнуть. Алтынов осторожно прокрался к своей койке, что стояла у самой двери общежития, и, стараясь не потревожить сон уставших трактористов и шоферов, принялся раздеваться. Раздевался дольше обычного. Кожаная правая рука на этот раз плохо помогала левой, и левая, здоровая, видимо тоже уставшая за день, никак не могла расстегнуть ворот рубахи, хоть проси у кого-либо помощи. Иван Ильич подумал да так и лег, не снимая рубашки.
Постель не принесла успокоения. Ночь он провел почти без сна. Ближе к утру не вытерпел, осторожно прокрался за дверь — хотелось курить.
На воле хозяйничал острый морозец, он пробовал все, хватится за дверную скобу, и скоба заледенела, найдет щелку, по которой идет со двора теплый воздух, края щелки мелкими ледяными иголками опушит.
Сойди с крыльца, шагни, и промороженный хруст раздастся далеко окрест. Ясная была ночь, звездная. Прояснились и мысли Алтынова. Иван Ильич понимал, что формально он не мог строго спросить с Грошева как с коммуниста, опять же формально Грошев был прав: Никандров не доложил ему о беде и самовольно угнал машину, в случае аварии или еще там чего Грошев и отвечал бы. И все же Алтынов сознавал, что Грошев совершил подлость и по отношению к Антоновой, и по отношению к Никандрову. Сердце Алтынова сжимала боль, он жалел и Машу Антонову, и Костю Миленкина, как жалеет отец своих детей, и еще потому его сердце стонало, что он чувствовал себя виноватым. Ему было тяжело: он верил Грошеву и как-то защищал и спасал его от Низовцева. Он казнил себя за это.
И именно в эту ночь у него вызрело окончательное решение уйти с поста секретаря парткома. В июне ему стукнет пятьдесят пять. Он инвалид Отечественной войны, больной человек, его никто не станет задерживать и никто не потребует объяснения. Когда пришло это решение, он немного успокоился и даже уснул, спал, должно быть, всего час.
Утром он по-прежнему был энергичен и деятелен, потому что был ответственен и был обязан довести дело до конца, пусть даже если он упадет замертво на торфяном болоте. И снова его всюду видели в грязных бурках, в кожаном длинном пальто и с прижатой к туловищу правой кожаной рукой. Он командовал, распоряжался, а душа его кровоточила и рвалась в Конев.
В Конев Устинья въехала при огнях. За дорогу ноги захолодели. Она шибко бежала по узкой больничной улице. Мерзло поскрипывал снег. Была одна тревога: поздно — не пустят, врачи, поди, по домам разошлись. Успокаивала себя: «Пробьюсь. Как не пустят — пустят, скажу, что мать, разве не все одно какая мать — мать и мать. Как мать не пустить».
Устинья готова была ночь, не смыкая глаз, просидеть около постели больной снохи. «Нянечкам что она, того, голова, не прикипела, знаю я их, завалятся на порожнюю койку — и храпака. А человек майся, попить подать некому».
Устинья смело вошла в больницу. Санитарки ей преградили путь. Закутанная в шаль и головастая от этого, она норовила проскочить мимо них. На громкий разговор в больничный коридор вышла дежурная врач, женщина в годах. К ней-то и рванулась Устинья, думая, что пустит, но та принялась строго внушать, что для посещения больных есть часы приема, пусть Устинья приходит завтра.
— Бабушка, приходи завтра, — наставительно повторила врачиха, видимо, шаль помешала разглядеть лицо Миленкиной.
Устинья в обиде ляпнула:
— Я тебе такая бабушка, как ты мне внучка. Может, я моложе тебя.
Последние слова и сама не знала, к чему сказала. Просто обиделась на врачиху. На улице затужила: «Батюшки, что я сморозила, она меня завтра не пустит». Но вспомнив, что утром придет сменщица, успокоилась немного.
Читать дальше




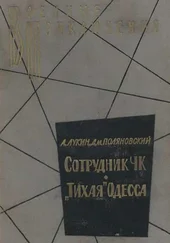
![Александр Борисюк - Тихая деревня [СИ]](/books/412501/aleksandr-borisyuk-tihaya-derevnya-si-thumb.webp)

