— Не дразни меня, Богдане. Вздумал проверять свое счастье, катай. Завидую я тебе. Почти вся семья в куче, а вот я остался один, как гончак...
Рамодан потер виски, поднялся, потом побарабанил пальцами по столу и направился к выходу.
— Рамодан, друг, — Дубенко нагнал его, полуобнял, — приходи к нам почаще. Просто как к родным...
— Спасибо, Богдане. Кати, езжай скорей к своему счастью. Передавай Валюхе от меня поклон, низкий до сырой земли...
Мороз крепчал. Голубой спиртовой столбик авиатермометра, прибитого к фасадной двери, показывал тридцать шесть градусов. Пальто, пуговицы сразу засахарило, мех воротника и шапки вспухнул сединой. Снег со скрипом ложился рубчатой линией за автомобилем. Дубенко сам сидел за рулем. И все же ему казалось — путь к больнице далек, подъем в гору труден и слишком медленно мчится машина.
Знакомые обледянелые львы, бетонные ступеньки. Он сбросил пальто в раздевалке, отряхнул унты.
— Вы куда? — нерешительно спросила его служащая.
— Туда. Дайте халат.
Женщина выполнила его приказание. Богдан завязал тесемки уже на ходу, взбегая по лестнице. На площадке ему встретилась больная — тогда она лежала рядом с его женой.
— Где Валя? — спросил он. — Какая палата?
— Там, — указала она, — вторая дверь от комнаты профессора. Но к ней еще нельзя. Никому нельзя в ту палату.
Богдан уже быстро шел по коридору. Его никто не останавливал. Хотя кто мог бы это сделать? Он мог бы оттолкнуть любого, кто попытался бы сейчас преградить путь к ней. Может быть он слишком много доверял и теперь будет наказан за это доверие. Ведь он не видел ее еще ни разу после операции. Может быть его обманули и положение хуже... гораздо хуже...
Вторая дверь от комнаты профессора. Он распахнул двери. Глаза побежали по кроватям, по испуганным, бледным от потери крови лицам. Ее не было. Богдан подбежал к третьей двери и остановился у порога. Валя лежала невдалеке от него, на крайней кровати и смотрела на него теми же испуганными глазами, какими смотрели женщины в предыдущей палате. Он бросился к ней и упал возле нее на колени.
— Как ты попал сюда? Сюда никого не пускают...
Она не могла повернуть головы, но испуг не покидал ее. Она знала, что сюда пускали только тогда, когда больным очень плохо, когда... смерть.
— Ничего не думай, Валюнька, — говорил он горячо и радостно, — никто не пропустил бы меня сюда к тебе. Но я прорвался сам, по-партизански. Ничего плохого. Я хотел тебя видеть.
— Хорошо, — она слабо улыбнулась.
Мелкая испарина выступила на ее лице. Она была рада его появлению, но не могла подавить страданий.
— Мне только что поставили банки. Тридцать восемь и семь.
Он продолжал стоять возле нее на коленях. Он взял ее руку, гладил ее, целовал, шептал какие-то бессвязные слова утешения и их общей радости. Он говорил о Кубани, о письмах, о начале наших побед, о будущем страны. Он говорил ей почему-то о Крыме, о медных горящих деревьях при спуске с хребта, о горном прозрачном ключе, о солнце, которое вернет ей силы, о своей любви к ней.
— Мы увидим Алешу? — прошептала она благодарно.
— Увидим, родная...
— Спасибо... теперь мне будет легче. Иди, родной...
— Ты устала?
— Да. Спасибо, что пришел. Кланяйся всем: Рамодану, Иван Ивановичу Лобу и обязательно Угрюмову. Он хороший человек и, может быть, единственный наш уральский друг...
Она закрыла глаза, и он увидел ее посиневшие веки.
— Открой глаза, — попросил он настойчиво.
Валя открыла глаза и улыбнулась, так хорошо, знакомо. Он увидел снова жизнь, возвращение к прежнему, родному до боли, до слез.
— Я... мне почудилось... Теперь хорошо...
Он провел ладонью по своему лицу, по волосам, поднялся и, наклонившись еще раз к ее лбу и руке, вышел.
В коридоре его встретил профессор. Он взял его об руку и завел в свой кабинет.
— Я слежу за вашей женой и прошу вас, дайте мне возможность ее вылечить.
— Простите, товарищ профессор.
— Прощаю, — он махнул рукой, — такие вы все мужья. Имеет — не ценит, а потеряет — плачет. Идите скорее к себе, и не забивайте голову пустяками. Давайте скорее свою «Черную смерть», а жизнью заниматься предоставьте нам, Богдан Петрович...
Шевкопляс вышел из барака, потер нос и щеки и недоуменно поднял глаза к термометру, покрытому, как бородой, игольчатыми наростами снега.
— Сколько? Тридцать девять?! Кабы с ветерком, сжег бы проклятый морозище, так?
— Пожалуй, так, — согласился Лоб, поднимая меховой воротник.
Читать дальше









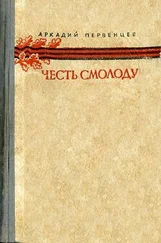
![Аркадий Первенцев - Навстречу подвигу [сборник]](/books/419976/arkadij-pervencev-navstrechu-podvigu-sbornik-thumb.webp)