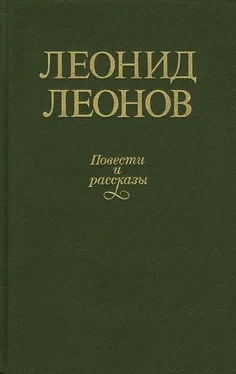Временами, особливо по утрам, находила на Федора туманность, и тогда, под полушубком ежась, все просился домой, со слезой и жалобно, а Савосьян, он крепче был, смеялся беззлобно, — так смеется белый лунь, малым клювком метясь в пробегающую рыбу: — Куда тебе, домо-ой… У нас дом один, — здесь. А тама мы с тобой как есть бездомные!
…Тот день был единственным среди всех соседних дней. Подморозило и цепным льдом понакрыло вчера еще глубоватые лужи. И солнце стояло невысокое, не имеющее жара, лишенное силы и крепости, румяное по-стариковски, как печеная скрижапь. Был жуток вид бурых лугов и голого неба безветренный пустырь, и все это, лежащее ныне перед мысленным взором нашим, все было как большой, дохлой бабочки увядшее крыло.
Вечер давно наступил, и ни шорох ветра, ни острокрылый свист быстромелькающей вечерней птицы не нарушали покоя замертвевших полей. Стало некому кричать об этом: ушли в неизвестные разные места все те, кого еще двужильные ноги таскали, да кто сберег захудалую кобылу на лихой конец. Сказывали, будто голос им был: «Куда хотите, туда и идите»…
Пуста Петушиха, жерди крыш обнажились — ни человека, ни собаки, ни паука за мокрыми порогами. Кажется: занесет Петушиху снегом, не верь в Петушиху, брат!..
Сказал Федор: — Это ты, Савосьян, ты к Богу за пазуху полез. Вот и помираешь! А тот: — И ты до завтра помрешь: даве все домой просился… на тебя темь находила.
Тут ветер ночей совиных с маху ударил в окно, и за дверь, которая распахнулась рывком, скользнул молнией, бледный, весь трепещущий Алеша. Швырнув на пол суму пустую, пустую третий день, схватился, будто в нем судорога, за дверную ручку, не выпуская ее ни на минуту, словно боясь, что войдет кто-то и подавит все кругом темным, неморгающим оком, — а сам взвизгивал нечеловечьим, заглушённым визгом.
Первый спросил его Савосьян: — Ты штой-то, Алексей?. Забормотал невнятно в ответ, — трудно было понять его: —…столб, черный столб идет. За мной всю дорогу шел… От Семеновска бегом драл. Два их было… один над Петушихой рассыпался!..
Переглянулись старики, у них стало холодать в спинах. И слышали, покуда замолк Алеша: над проклятыми, обеспложенными полями звенело темное солнце, как навозная желтая муха в цепкой паутине беды.
Переждав мгновений двадцать, приоткрыл дверь осторожно Алеша, выглянул и, визгом страшным и предельным потрясая звенящее молчанье, — упал, мягко и сильно, затылком чавкнув об зашарканный косяк лавки.
Так и остался лежать. Звал его Савосьян, да и Федор тоже, разов семь подряд, а подняться сами не могли: «Алеша… Алеш… Але-ешенька!» Ответа им не было.
К вечеру начались у них, у обоих почти сразу, смертные перехваты, — у Савосьяна у первого. Он лежал и все поскребывал трудно одеяло, словно чесалось одеялу, костенеющей рукой. Что-то неслось, увлекающее, темное и густое и липкое до противности, перед мутнеющими взорами, наваливалось на живот, и потом, — будто гумно не полото.
— Федорушко, а Федорушко, чево ж это гумно-то у нас бурьяном заросло… заросло, и монашки ходят!..
Но Федор молчал долгим, упорным молчанием. Опять встрепенулся Савосьян, захрипев: — Марь, Марья, заткни леток, — улетят ведь!.. А его не зови… не зови. И зачем, ушел ты зачем? Тут как раз стало Федору холодно, — ночь шла Колушовским оврагом, глубокая, мутная, без креста, без звезд. И увидел Федор: воздвиглась перед взором слабеющим облачная церква, а креста-то на ней и нет. И пошел будто Федор к церкве той, а Савосьянов отдаленный голос сзади: — Ох, Федорушко, и зачем же страшно-то мне? Обернулся Федор и закричал приятелю: — А ты не бойсь, ты с закрытыми глазами иди, тогда не страшно… Ты корачиться-то не надо! И вошел Федор в церкву. И когда вошел, все кончилось.
…В темноте ледяным дождем брызнуло в окна, а в голых сучьях притаился ветер. А потом ка-ак взмахнет! И пошло, и пошло…
XIX
Ночью очнулся Алеша и услышал гудочек. Открыл глаза Алеша и взглянул в вышину над собой. Увидел: в беззвездной страшной вышине — Егорий на коне.
Обступили толпы его большие, много средь них и петушихинских, — и все со страхом взирали на Егорьево черное лицо, искаженное мукой.
Крикнул тут Егорий: — Веди их, Алексей Хараблев, к свинцовому сундуку. Пускай сами узнают. Прямиком веди. Дорогу помнишь? Ответил Алеша громово: — Знаю. И пошел впереди. И будто горы вместе с ними шли. Ты ли, ты ли, Алеша милый, волчьего стада безвестный поводырь?..
<1922>
Необыкновенные рассказы о мужиках
Читать дальше