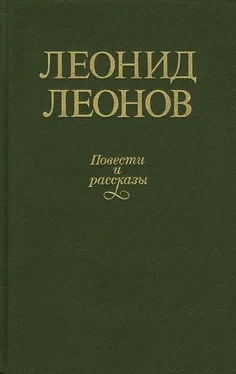Кончился день так: пришли когда к игумену подписать протокол, увидели, что игумен висит у печки. Оказалось еще, что кружкой глиняной было разбито стекло в иконе: глиняные черепки вместе с лампадными осколками были разметаны по полу в масляных густых пятнах там и сям. Буянил, видно, сильно сам с собой перед смертью игумен. Сделали в протоколе приписку, что, по независящим обстоятельствам, игумен руку приложить не мог. Тогда же железом своим понял Арсен Петров: не захотел Мельхиседек махать пустым кадилом, — ни ладану, ни жару в нем.
У Талагана была черная охотничья собака, любил ее очень: когда харкал кровью, она его, единственная из живых, жалела, руки лизала. Воротясь в тот вечер домой, запер дверь на крючок и бил растерянную, визжащую, плачущую по-собачьи, голым дрожащим кулаком.
…Где-то по дороге домой Алеша черемы белой благоуханное облако увидел.
XIII
Установилась мокредь. И когда гулял в Пестюрьках мужик, снившись самогону, не знал, куда и бубенцы навязывать: на дугу ли, к саням ли, к веселой таратайке.
Далеко еще, хоть и не особо, было до медвяных рос мая, по уже несла, несла Евдокея лето за пазухой, — стужищам конец…
Вечерами, вечера весенние — светлые, раскидывал тихий ветер шелковые облачные невода, ловил месяц, и когда кувыркался тот испуганно, порывая облачный шелк, — было и смешно и хорошо. Но росли опять слухи и на людей шли, темные и пасмурные, словно горы сдвинулись с мест. О, кто послал их на людское племя, — первую б пулю тому!
Притихшие, по вечерам, говорили у колодцев, у изб, расходясь с редких сходов: — Пашке в городе сказывали, будто семнадцать енаралов на нас войной пошли… — Чужих, говоришь? — На нас. Прут со всех концов. Талагашка-то тож добровольцем удрал… Кровью человек исходит, — куда ему! — Ишь ты, прыткай. — Еще надысь видел кто-бысь, — монах один, от Пафнутья-то в большаки пошел… С револьвертом ходит. Хоть бы бородишшу-то рыжую свою сиял! — В большаки? Дяла-а… Да и тово ль от нас ждать можно. Сами-то: осподи-осноди, а чуть что — и в ухо норовим… Потом еще: — Говорят, будто Китай за нас. — За кого за нас? — Как за кого? Да вопче… — То-то и оно! Бывали и такие разговоры: — Аннушка-то Талаганова с комиссаром связалась! — Ей-бо? Заместитель, гы-ы… — Хо-хо, осподи!
Так сидели и говорили, пищали и шамкали беззубыми ртами, пока дороги пылились копытцами верещащих баранов; пока коровы, глаза плошками выпятив и выменем переполненным болтая, приходили; пока кони сбирались у водопойных корыт.
Пастуху Павлу Коркуну, когда гостевал у Палагеи, рассказывала между делом, подставляя тугие свиные щи: — Большаки-то, слышь, хлеб будут отбирать… Приказ вышел, будто мужикам и без хлеба ладно! — Жулье народ, да-а… — Мы, говорят, ваши, а раз ваши, — хлебец-то и выкладай! — Ишь ты! А-а-а… Молодцы робяты! Кровяные лошадиные глаза супил, не понимая к Палагеиной досаде, Павел, гладя бороду, пахнущую полями, придвигая поближе щи.
XIV
…И был день в той весне, который сменился ночью. И опять текла тишина в Колушовском двуедином овраге, как давняя забытная река.
А сны бежали под окошком, заскакивали мимоходом к Алеше на лавку; на ухо ему шептали ладные песни, и было сладко это спящему, как если бы проводил кто-нибудь уставшего пушистым, мягким соболем по лицу.
Среди ночи скрипнуло что-то, и потом гудочек. Проснулся Алеша и сел. Видит: темнота. Слышит: Федор на полатях храпит. Тишина вползает из оврага через подоконник. И в чуткой тишине — Егорий на коне.
Прыгнул конь на пол, словно крылья помогли глиняным, незаправдашним ногам, — и в дверь. И все так же, как давно когда-то, пошел Алеша за Егорьем вслед, ступая по тропинке кремнистой среди черных, превысоких гор на босу ногу одетыми лаптями.
Вот вырос конь с гору, и красным, как кровь, сверкнул месяц-подкова меж серых облак, словно истекало кровью копыто Егорьева коня. Обернулся Егорий, спросил нестрашно, но жалобно: — Ты кто? — Я? Алеша. — Иди. И увидел пещору и вошел. Стоял там свинцовый сундук по-прежнему, но дьявоилов трех не видать. Обернулся Алеша, ища, — увидел: все красным залито, и трепещет красное и горит нескончаемо.
Усмехнулся Алеша: «Вот, мол, я человечествa-то Радость и погляжу счас». Поднял крышку и увидел там темное, холодное, пустое место, и не было дна той нехорошей пустоте.
И поклонился Алеша сундуку и вышел вон.
Идя дальше, увидел камень, на котором прошлый раз слепой чугунный дед толок Алешину землю. Не видать было деда, а ступа стояла каменная, и пест в ней. Выходило, будто позвали деда обедать наскоро, он и оставил. И усмехнулся Алеша и заглянул в ступу. Был камень в ямках весь изнутри, и не было в нем ничего.
Читать дальше