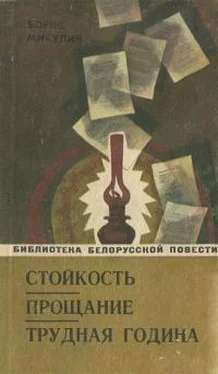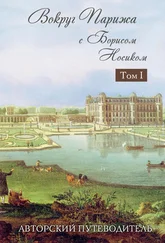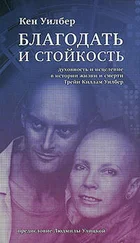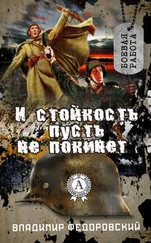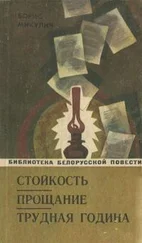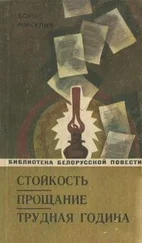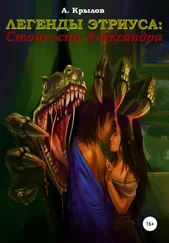Борис Микулич - Стойкость
Здесь есть возможность читать онлайн «Борис Микулич - Стойкость» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 1973, Жанр: Советская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Стойкость
- Автор:
- Жанр:
- Год:1973
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Стойкость: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Стойкость»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Стойкость — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Стойкость», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Он сразу тогда понял, что в этой суете и смятении нужна твердая рука, способная одним взмахом поставить на свои места всех этих «полководцев», «государственных деятелей», «национальных героев».
Пополнить недостающие знания в точных науках ему помогали настойчиво. Лекции, которые он слушал в горном институте еще до революции, вдруг оказались весьма полезными, и он — один из первых — с дипломом солидного немецкого университета, схоронив на известное время в самом себе свое истинное «я», с расчетом на сторонников в России, с документами на имя Бердникова, объявился в Советском Союзе.
Он не претендовал на руководящую роль в той организации, что создавалась при его ближайшем участии. Сыскался более прыткий, более хитрый человек. Кроме того, он уразумел, что дипломатические споры и надежды на «лучшие времена» сами по себе прихода этих «лучших времен» не гарантируют, если не ведется активная, деятельная работа. И он, горный инженер Бердников, отправился в странствие по Советскому Союзу.
Тут работы хватало. Нужно было собрать единомышленников, то есть подобрать щепки разбитого корабля, чтобы потом из этих щепок сколотить хоть какое-нибудь, пускай сперва мелководное суденышко. Правда, соорудить даже такое суденышко никак не удавалось, но мачта для паруса за этот срок кое-как склепалась. Это стоило больших денег в разной валюте, но уж если не во имя идей, то во имя денег «человеки» слушались его.
И здесь, где за три года вырос металлообрабатывающий комбинат — еще одна примета мощи великой страны,— сыскались такие людишки тоже. Но было их мало. Бердников с отчаянием убеждался, что значительная, преимущественная часть высшей технической интеллигенции шла за большевиками. Это было катастрофично. Это было капитуляцией. Сам Бердников не капитулировал, а, пряча еще глубже в душе изводившую его животную ненависть, прибегал к более изощренным методам борьбы. Одного террора было совсем и совсем недостаточно, это напоминало эсеровщину, потерпевшую не один полный и бессмысленный провал. Тонко продуманный план использования новых методов борьбы был осуществлен его помощниками не слишком удачно, и террор пришлось применить снова.
Лично ему это нравилось даже больше. С садистским удовлетворением он получил возможность видеть конкретные дела рук своих. Некоторое время он считал террор основным методом борьбы.
Сведения, доходившие до него, не были оптимистическими. Коллеги по деятельности на электростанциях Союза засыпались. Часовые пролетарской диктатуры добрались до основы основ — до центра в столице.
Он нервничал. Он сосредоточил все силы на том, чтобы не выдать своего возбуждения. Ему порой было невыносимо трудно изображать на лице улыбку. Весь организм его превратился в сейсмограф.
И тут его поджидал удар.
Человек покачнулся и почувствовал, что, если упадет на этот раз, ему не подняться.
Новый метод провалился.
Найди начало — и ты поймешь многое. Этот крылатый афоризм не вызвал даже и тени улыбки. Человек готов был рвать на себе волосы.
***
Екатерина Неерзон не сразу, но успешно избавляла свою психику от всего того, что внушило ей материнское воспитание, что определялось всеми аксессуарами бытия ее семьи в маленьком особняке на окраине Крушноярска. Коренная ломка психики началась, правда, давно, с первого курса вуза, но процесс перестройки ее, процесс ревизии своих — таких, казалось, устойчивых прежде — доктрин миропонимания длился непрерывно, прогрессируя в последующие годы. Первый удар по этим выпестованным еще на заре юности доктринам нанесла сама жизнь сразу после того, как она вырвалась из-под опеки родителей.
В пестрой студенческой среде первых послереволюционных лет один за другим рушились ее авторитеты, ее идеалы... и взаимоотношения отцов и детей, и понятия добраи чести, и пассивность женщины в социальной жизни общества. Исходя из воспитанных матерью, дореволюционной гимназией, всей средой принципов, она и профессию памеревалась выбрать нейтральную, надклассовую или, по крайней мере, общечеловеческую. Выбор логично пал на медицину. Однако и этот принцип рассыпался в прах, и вот мало-помалу из наивной провинциальной гимназистки стал формироваться общественный тип — не просто врач, а врач советский.
Войдя в новую среду, она через длинную цепь противоречий пришла к сознанию того, что ее работа немыслима вне сложной жизни страны, что не может она вернуться в уютный, но, в сущности, мещанский климат особняка на окраине Крушноярска. Она была молода, любознательна и энергична и эти личные качества решительно отдала своей профессии, делу перестройки общества, членом которого чувствовала себя прочно. Чтобы быть нужной, она стала специализироваться в области профессиональных заболеваний, провела множество опытов по оздоровлению отдельных отраслей металлургической промышленности. Она слыла крупным специалистом, ей доверили создание института, она углублялась в проблемы оздоровления вредных для человеческого организма видов работ, в проблемы организации здоровых условий труда людей тяжелых профессий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Стойкость»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Стойкость» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Стойкость» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.