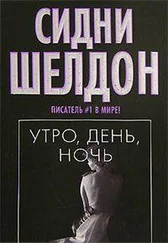— Стой, Федька, стрелять буду! — кричал Шмаков, перезаряжая ружье. Вдруг тот мужик, который вел с инспектором переговоры, обернулся и выстрелил четыре раза подряд. «Пистолет! — сообразил Шмаков, падая. — Кажется, куда-то влепили… Мать честная — война! Настоящие боевые действия! И это в мирное время…»
И все замерли — инспектор и браконьеры, и все гадали, куда пуля попала. «В ногу», — определил, наконец, Шмаков и приподнялся на колено. Снова грохнул пистолетный выстрел. Мимо. И еще один. Тоже мимо. Мужики сорвались с места. Стрелявший на ходу шарил в кармане плаща, наверное, доставал следующую обойму. «Нет уж, теперь мой черед!» — Шмаков с колена прицелился, выстрелил, но промазал. «Черт! Голова кружится… Так я, пожалуй, не много навоюю». Отполз в кусты и, перетянув ногу ремнем, стал ждать, чего дальше будет.
Браконьеры расположились в стогу метров за сто. Сначала их было четверо, но потом и двое с казанки присоединились. «Валяйте, валяйте, — вздыхал инспектор, — посмотрим еще — кто кого. До темноты больше выстрелить не решитесь — и так нашумели… А тут, глядишь, какая-никакая подмога придет».
К вечеру дождь перестал. Пришла тихая темень.
Издалека, из степей, донес ветер обрывок песни вагонных колес. Короткий, словно нечаянный гудок самоходки шевельнул на мгновение влажную ночь. Потом в бесконечной глубине черного неба заныл самолет. Но ни машинист, летевший по рельсам с полусотней вагонов, ни капитан самоходки водоизмещением пять тысяч тонн, направлявшийся в Швецию, ни пилот, который, выйдя из виража, первой ракетой шлепнул мишень, болтавшуюся черт знает где над соседней областью, — никто из них, вооруженных тысячами лошадиных сил, не видел и даже не предполагал, что на берегу островка между Волгой и Ахтубой, забившись в кусты, валяется инспектор рыбной охраны Шмаков, слегка пьяный уже от потери крови, и стережет полтонны икры — дерьма-то! Никто не знал, никто не мог помочь…
Дважды за ночь Шмаков вступал в перестрелку, трижды — в переговоры. Беседовать на расстоянии ружейного выстрела Шмакову было тяжело — мало крови оставалось. Он выкрикнул свои условия: «Можете идти в милицию, можете — к едрене фене!» — условия в общем-то равнозначные. На все предложения про деньги и гарантии — отвечал матерными словами, не слишком заботясь о разнообразии.
Между тем приближался рассвет — пора было приводить битву к исходу. Браконьеры рассыпались и поползли, чтобы взять инспектора в клещи. Он слышал уже перед собой и по сторонам тяжелое дыхание. Выбрав ближайшее, выстрелил. Раздался вопль. «Все, — понял Шмаков, — можно и отдохнуть». Бандиты бросились бежать. Вопль раненого тоже удалялся. «Должно, в руку попал. Если б в ногу или еще куда, бег бы помедленнее».
Когда Нефедов приехал к дочери и сообщил, Антонина только головой покачала: «Нет, батя». Но побледнела. Подошла к окну:
— Глянь-ко — друг евонный молчит, не воет, а вы говорите, что… Нет, батя!
— Да я ничего такого и не сказал. Ну, катер утопленный обнаружили, вот и все.
— Будь она проклята, эта рыба, — запричитала дочь, — будь неладна…
— Конечно, работа такая, — вздохнул Нефедов, готовясь к тому, что Антонина или упадет, или зарыдает, или все вместе. — Работа такая… Надо бы, конечно, сменить, если, конечно, — он откашлялся, — ничего… особенного не случилось.
Антонина обернулась к отцу и неожиданно зло сказала:
— Вы бы помолились, батя, чтобы ничего не случилось, а то, если, не дай бог, чего случится… я сама займу Романово место, и тогда…
Взяв отцовскую моторку, уехала со шмаковским кобелем. Жмурик стоял на носу лодки и, напрягая остатки старческого чутья, искал хозяина, с которым, судя по поведению гостя, что-то произошло, хотя пес спокойно продремал ночь, и ничего особенного ему не показалось. Через два часа гонки по старицам и протокам дрожавший от напряжения и усталости Жмурик вдруг захрипел, закашлял. Антонина причалила к зарослям ивняка.
Никушин лениво вытаскивал из щели между бревнами не перестававших клевать ершей, снимал их с крючка и бросал в ведерко.
День начинался облачно и хмуро, но скоро просветлел, последние перья облаков унесло куда-то за лес, и теперь солнечные лучи, не встречая препятствий, падали на землю и жгли ее.
С мертвых сосновых бревен испарялась смола, отчего над плотом стоял тяжелый хвойный дух. Вода в ведерке грелась, и ерши переворачивались вверх белыми животами, засыпая в теплой воде.
Читать дальше