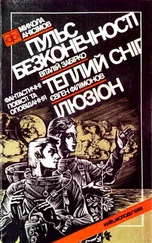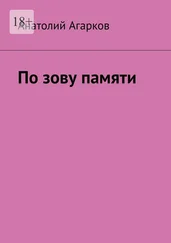Да, это был его первый нестершийся шаг в меня, шаг через какой-то невидимый порожек, под приподнявшимся вдруг и тоже невидимым пологом. Первое вторжение в работу детской мысли, настойчивое, властное и закономерное вторжение, которое уже не растворилось во времени…
— Видишь?
— Вижу!..
Я касаюсь темных волнистых волос отца, ко мне запрокинуто его смеющееся лицо, под коленками у меня крепкие и чуткие руки…
Подробности приходили позднее, а это вошло тогда же, через тот же порожек, разорвав и рассеяв пелену раннедетской невосприимчивости.
Вошло и осталось навсегда.
И не просто как воспоминание об отце. Были те минуты в моей памяти подобны кремню в незримом кресале, что бы относящееся к нам обоим ни коснулось острых и словно бы наэлектризованных граней камня, из них сразу, как вспышка, возникал образ отца. Улыбающегося, крепкого, поднимавшего меня над землей…
Может быть, с той самой минуты во мне навсегда поселилось и ощущение «набора высоты»: мне кажется, что отец, пока жил и всем тем, что оставил в памяти, неутомимо, непрестанно поднимал и поднимал меня.
Со ступеньки на ступеньку.
С уступа на уступ.
Выше и выше.
Впрочем, почему — «пока жил»? И почему — всем тем, что оставил в памяти? Связанное с ним ощущение «набора высоты» живет во мне и по сей день.
Не старея и не стираясь.
А если вдруг обнаруживается незаконченность моих представлений об отце, то их, помимо моей воли, рисует воображение. Как бы назло смерти. Наперекор ей.
Но о смерти потом.
Сначала о жизни.
Хотя, в сущности, смерть — это ведь завершающая частица жизни. Разве можно законченно представить себе любую из человеческих жизней, если не знать, как человек умер?
Дело, разумеется, не в днях, часах или минутах агонии, когда последние затухающие бои между «быть» и «не быть» ведутся уже лишь на биологической половине. Речь идет о встрече еще живого сознания с надвигающейся неотвратимостью. Догорает, как говаривали в старину, свеча души, плавится воск сердца и воли, ясность поглощается затмением. Что же будет завершающей вспышкой — крик расслабленного отчаяния или мученическое, но мужественное приятие уже осознанной трагической неизбежности?
Так вот: этот итог итогов — разве смерть? А чему же тогда вершить, чему венчать годы и целые десятилетия жизни? Путь не пройден, если не сделан последний шаг. У прожитого и пережитого всегда будет недоставать последней страницы, если уход из жизни — пусть это будут всего лишь мгновенья! — считать смертью.
И даже более: смерть приходит лишь после того, когда сознание живых смиряется с утратой. Богу — богово, кесарю — кесарево. Пусть врачи оперируют своим понятием о наступлении смерти — у тех, кто скорбит о погибших, оно должно быть иным. От этого не пострадает истина, но живее и долговечнее будет наша память.
А вмещает благодарная человеческая память только живое. И все умершие — для нее живы. Если она тоскует о них.
А если не тоскует, то и до смерти они были для нее мертвы…
Я ударяю памятью о кремень того самого кресала, незримого кресала воспоминаний, и тотчас передо мной предстает он, мой отец. Живой, ясный, деятельный, составляющий частицу окружающего его и меня мира.
Не инертную, не замкнувшуюся в себе, не утонувшую в безвестности, а увлеченно-активную и яркую частицу!
По крайней мере, для меня.
А может, и не только для меня. И даже наверное не только для меня, но для каждого из всех тех людей, которые знали моего отца, видели его, понимали и любили как человека.
И конечно же для моих старших братьев.
И для матери нашей — тоже.
…Где-то, когда-то, возможно еще в отрочестве, встретились взглядами двое: улыбчивый, разбитной хлопец и русоволосая застенчивая девчонка. Он — с одного края села, она — с другого. Это расстояние «в полста» домов вмещало в себя все жадное и жаркое нетерпение их встреч, всю молодую и неизбывную силу родившегося взаимного чувства. Длинная, неуклюжая, с зигзагами, с хилостью хат, с весенними — вдоль и поперек — размывами, улица села стала вдруг незнакомой. Потому что они, заметив друг друга, открыли мир заново. Улицу тоже. И оказалось, что нет ничего более радостного, как вновь и вновь пройти ее всю, мечтая и надеясь, что нелегкий путь этот — путь под шпицрутенами въедливых глаз и злых языков сельских сплетниц — будет оплачен безотчетно влюбленным и понимающим взглядом. Да еще улыбкой — как бессловным обещанием новых и новых таких же радостей.
Читать дальше





![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/216144/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti-thumb.webp)