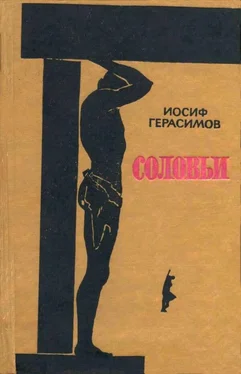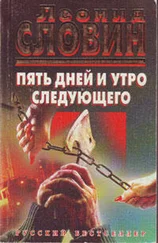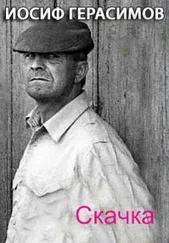— Ну вот, — опять сказал очкастый. — Твою разгрузим, а Костину не знаю куда и складывать.
— Эх, а все люди, — вздохнул шофер. — Везет же мне в этой жизни. Ребята по Ладоге хлеб возят, а тут… Я их до войны боялся. Если какие похороны по городу, за квартал стороной обходил, а сейчас по полному кузову вожу.
— Ладно… Ты вот там не слыхал ли чего?
— Слыхал, что и вы: Федюнинский, кажись, наступает.
— Может, к весне раздыхаемся. Народ вон говорит, как прорвут, на особый паек посадят, санаторный, чтоб калорийность пищи была и витамины.
— Пей хвою, и весь тебе витамин.
— А все же для поправки здоровья должна быть особая жратва. Вот до войны у Елисея колбаса такая была…
— Ну, завел! На вот кури, да пошли, разгружать надо.
Они поговорили еще о своем, докурили цигарки, и поднялись, постанывая, разминая затекшие ноги, и пошли за деревья, туда, где была машина.
Костер еще горел, хоть и не так сильно; от него исходили свет и тепло. Казанцев взял опять девушку под локоть, подвел к освободившемуся бревну, и они сели на него, спиной к машине, чтобы поменьше слышать шум работы.
Она сняла варежки, протянула руки к огню. У нее были тонкие и длинные пальцы, он не удержался, взял ее руку в свои ладони. Ему казалось, что эти пальцы должны быть холодными, но они были теплыми, чуть дрожали. Он погладил эти пальцы. Она смотрела только на огонь и тлеющие угли, которые то вспыхивали пронзительно красным, то покрывались чернотой. Он теперь не слышал шума работы, пространство вокруг них было пустым, оно освободилось от всего на свете, от снега и деревьев, от могильных холмов и часовни, там просто была пустота, а в центре ее был свет, тепло, и они двое, только они, имеющие свое место и объем в этом опустевшем мире. Он чувствовал гладкую кожу ее худой руки, притихшую жилку пульса, и ему захотелось, чтобы она произнесла сейчас хоть слово.
— Расскажи мне что-нибудь, — попросил он.
Она не шевельнулась, словно и не слышала его.
— Ну, хорошо, — сказал он, — тогда я расскажу тебе про этот огонь. Его похитил Прометей на Олимпе из горна Гефеста, чтобы отдать людям. Это все знают. Но, понимаешь, когда я про это думал, то решил: дело не только в Зевсе, который приказал приковать Прометея к горам Кавказа, тут дело в Гефесте. Он был хромоногим пьяницей, продавшим свое мастерство Зевсу за бочку вина, и ему всегда не нравился здоровый лохматый Прометей, который мог лечить людей, дарить им надежды, и учить их всяким знаниям, и при этом плевать на то, что подумает о нем Зевс. А Гефест был единственным на всю землю кузнецом, поэтому его и сделали богом, и он ни с кем не делился своим мастерством. А когда огонь украли, Гефест понял, что не сможет остаться богом, потому что появится очень много кузнецов. Он считался другом Прометея, но это он нашептал Зевсу о краже, и сам ковал цепи для Прометея, и приковывал великана к скале. Он ползал, этот хромой, по камням, плакал и слюнтяво говорил: «Я всегда тебя любил, Прометей». А сам вбивал железный штырь в грудь великана. Потом, чтобы погубить дело Прометея, он создал Пандору, которая разнесла по всей земле болезни и беды. Но ты понимаешь, какая чертовщина, несмотря на свое предательство, Гефест все-таки остался богом, и ему поклонялись те же кузнецы и все, кто занимался ремеслом. Никто, наверное, не задумывался над его жизнью, а только над тем, что он был первым кузнецом. Когда я все это обдумал, мне вообще захотелось узнать: кто такие боги и боги ли они?.. Ты не слушаешь?.. Наверное, тебе это не интересно. Тогда знаешь, я расскажу тебе о своей маме. Она у нас рыженькая. Вот и я тоже, понимаешь, позолоченный. Она у нас веселая и ужасная хохотушка. У нее есть присказка, которую она часто повторяет: «горе не беда». Ты не представляешь, как это у нее смешно всегда получается… В общем, о своих близких никогда интересно не расскажешь. Вот про богов можно интересно, а про близких нет, хотя они, может быть, получше этих богов… Не получилось у меня ничего, — опечаленно вздохнул он, чувствуя, что слова его поглощает лишь тлеющий огонь, а она или не слышит их, или не воспринимает, и они, попадая в нее, рассыпаются на мелкие несвязанные капли, как дождь, не проникая сквозь резину, скатывается с нее.
«Неужели она ничего не слышит?» — подумал он и в тоске сжал ее руку так, что сам ощутил боль в суставах пальцев. Она медленно повернулась к нему, смотрела долго, и, пока она смотрела, он почувствовал, как снова наполнилось пространство вокруг. Возникла мерзлая стена часовни; слабый звон обвешанных снегом деревьев; шум работы такой, как на мельничных складах, когда сбрасывают вниз тяжелые мешки с мукой; вялая ругань людей, творивших эту работу.
Читать дальше