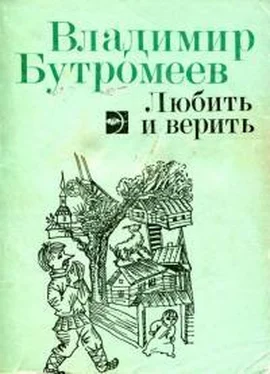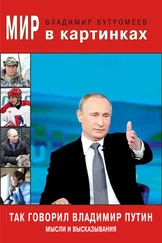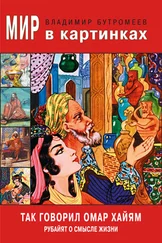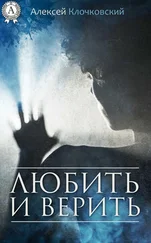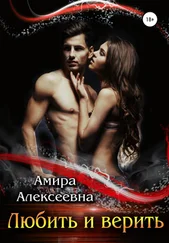Люба вернулась в деревню. Здесь стояли заколоченные три хатки — их с Ваней, бабкина и Ваниной матери. Она пошла в свою, вымыла, все, села за стол, посмотрела на ходики — скоро Ваня с работы. И так горько стало, так обидно за все! Как нехорошо получилось у них с Ваней, как нехорошо. О Ване она уже узнала, что он перешел с завода на стройку, это сестры надоумили — квартиру быстрее дадут, может, уже и присмотрели ему кого. Как невозвратно все получилось! И хоть бы передал ему кто, что Люба здесь, вернулась, хотя бы приехал — хоть один, совсем один только разочек!
Все лето она ходила на общие работы, все лето прожила дома, ждала. Люди, как всегда, поговорили и перестали. А Ваня так и не приехал. Зимовать Люба одна не осталась, уехала в город, пошла на льнокомбинат. Общежитие, хорошие девчата, в комнате порядок, постели аккуратные.
И все думала, что Ване одному там плохо.
Ване и в самом деле было нелегко. Чужой город. Работа, заботы, работа. А внутри оставалась такая же сосущая боль, эх, Люба! Невозвратимое, непоправимое, так глубоко и надолго западает в душу.
Солнце остановилось, порядком еще не дойдя до горизонта. Мягкие и теплые лучи его упирались в зелень нашего дворика. Был тихий, приятный летний вечер. Дед сидел на лавочке и рассказывал мне такую историю.
Сам пан жил где-то в главнейшем своем имении. Приезжал иногда только летом посмотреть. Хозяйством за него ведал Гирша. Хороший был управляющий — пану доход большой давал и сам не в обиде оставался.
На косьбу он нанимал мужиков с таким уговором: доработаешь до конца — получишь двадцать рублей. Большие деньги по тем временам. Не доработаешь хоть полдня — все твое пропало, ничего не получишь.
Начинали косить, а у Гирши был свой косец. Таких косцов не то что в округе, но, может, и нигде нет. Когда косит, его и без косы шагом не догонишь. Выматывал он косцов, не выдерживал никто до конца — бросали. Каждый год так нанимал, каждый год мужики соглашались, все хотели подвести Гиршу под монастырь — дотянуть до расчета. Но как ни крепились, сил сработаться с косцом управляющего не хватало, бросали за один-два дня до конца.
И вот в одно лето попался среди них хлопец, молодой и горячий. Когда работать не было сил, но и конец уже виден, и минута передышки казалась спасением, он воткнул на прокос шворень. Мужики видели, косят не дышат. Шша-шша — чуть уловимо ухом идет коса работника, вдруг — бриньк — шворень пополам, а коса — дальше шша-шша, так же неслышно и плавно, прокосик за прокосиком. И вот тогда поняли мужики, что дело не только в самом косце, и больше на уговор не нанимались.
Я колю дрова. Дед плотник, он любит поговорить про инструмент. Это доставляет ему большое удовольствие. Мне тоже. У деда есть редкий инструмент — немецкое накладное лезвие для рубанка. Откуда оно у деда, я не знаю, купил, наверное, до империалистической, тогда было много немецкого товара. Мужики говорили: «Немец сам по себе глуп, но инструмент у него хороший». Верхняя часть лезвия из мягкого металла, нижний слой из твердого. Лезвие само затачивается; когда строгаешь дуб — затачивается под дуб, когда сосновую доску — под сосну. Строгать им — одно удовольствие. Сам дед давно не берет в руки рубанок, ему за девяносто. Но никому, кроме меня, лезвия не дает, и то ненадолго. Правда, он обещал отдать мне лезвие насовсем, но после того, как помрет. О смерти старики, много прожившие, говорят просто. Да и умирают, наверное, по своему желанию. Решил, что пора, помолился богу, да и умер. Один мой знакомый старик нарочно не умирал, пока внуку не исполнилось восемнадцать лет, — все хотел передать ему ружье и билет, теперь с охотничьими билетами стало трудно, не добиться.
Вот за этими разговорами я по недосмотру и вогнал колун в вязкую, полугнилую осину. Нужно было ударить по краям колодки, а я, заговорившись, привычно бухнул в середину, топор засел — не вынуть. Пришлось пойти в хату, взять другой топор и ударить рядом. Но второпях и этот удар пришелся не туда, куда надо, а по обуху колуна. Колода разошлась надвое, обух колуна тоже, словно кто-то плавно разрезал кусок масла.
Постоял я, постоял, посмотрел на этот топор — ни вмятинки, ни царапины, и первое слово совпало с детски наивным движением души прирожденного плотника.
— Дед, отдай мне этот топор.
— Нет, топор этот я не отдам.
— Ну, после смерти отдай.
— Нет, и после смерти не отдам.
Вот ведь и не говорил старик никогда, и не хвалился, что у него такой топор. И лежал он не как то лезвие — в папиросной бумаге за образами, а как и положено, в русской хате, под лавкой, чтобы всегда под рукой. И топорище было неказистое, ну нипочем не скажешь, что самая хранимая и дорогая вещь.
Читать дальше