— Э-э-э, свидетели... Не те времена! Давай-ка лучше спать...
И Лукашик повернулся на спину, стал разглядывать темное звездное небо...
Он уже задремал было, когда их подняли. Командир взвода приказал отделению Букатова копать ячейки на стыке первой и второй роты у самого полотна железной дороги. Сам показал каждому, где копать, и пошел. Не было и сержанта Букатова. Бойцы не спешили. Позванивая короткими лопатками, они перекидывались словами, вспоминали случаи, далекие от фронтовой жизни.
Их прерывали только составы без огней, которые время от времени вырастали на железнодорожном полотне. Она шли на восток, облепленные людьми с узлами. Шли поезда с ранеными, эшелоны с оборудованием, машинами. И всюду люди, люди, люди...
Бойцы провожали их глазами и снова брались за дело, думая о своих семьях. Враг еще далеко от них, а чужое горе — не свое.
Эти бойцы были еще мирными людьми. Горячая пуля пока не обожгла их. Все было еще впереди.
В четыре часа утра батальон подняли по тревоге и приказали собираться.
На сборы хватило полчаса. Бойцы, продрогшие от ночного холода, спешили. Мерно шаркали подошвы по сырому асфальту шоссе. Рядом с Лукашиком шагал Солоневич. В трех шагах впереди маячила пилотка сержанта Букатова.
Когда прошли версты две, Солоневич, будто между прочим, со своим неизменным «слышь ты», шепнул Лукашику, что Фирсов не сдержал своего слова: отдал приказ сниматься. «Говорит, люди дороже земли. Вот как...» — закончил Солоневич и неизвестно почему вздохнул.
И Лукашик подумал, что после памятного разговора в блиндаже он увидел вдруг Фирсова совсем с иной стороны. «На его месте другой бы со мной не церемонился».
5
Солнце стояло почти в зените и жгло немилосердно. В такую пору только бы забраться куда-нибудь в тень или на берег речки да загорать. А тут шагай и шагай с полной выкладкой, и все на восток. То догонял их, то ненадолго отрывался гул канонады — где-то били пушки, а может, сбрасывали бомбы самолеты — разобрать было тяжело.
Лукашик особенно боялся самолетов. В его памяти еще свежи были минуты, когда он лежал в канаве у насыпи, а над ним кружил немецкий штурмовик, поливая станцию огнем своих пулеметов. Каждый раз гул моторов вызывал у него подспудное желание свернуть с дороги и броситься в придорожное жито или спрятаться за куст. Он заметил, как тревожно и нервно оглядывались его товарищи, когда в небе показывался чей-нибудь самолет — свой или вражеский, К сожалению, своих становилось все меньше и меньше,— небо, как и земля, переходило в руки завоевателей.
Шоссе кипело, шевелилось, гудело, словно река в наводок. Стоило вступить в ее русло, как волны подхватывали тебя, кружили, толкали, гнали дальше, и уже нельзя было устоять, повернуть назад или в сторону, И самолет в такой миг мог бы наделать беды,— думал Лукашик. Кругом, вдоль дороги — поле и поле, то лен, то жито, то клевер. Шоссе вьется, как сгибы на ладони, и все на нем — от человека до нагруженной военным скарбом машины — отчетливо видно.
Лукашику хотелось какого-нибудь конца. В его душе росло недовольство тем, что делалось вокруг. Он совсем обессилел; ноги еле переступали — механически, равнодушно; плечи болели от лямок вещмешка и винтовки; поясница ныла от патронташа и гранат. Ноги были потные, ступни скользили в ботинках — не помнит, когда разувался. Хотелось пить. Так хотелось, что хоть ложись и помирай. Вся сила уходила с потом, который заливал глаза, ручейком тек между лопатками по спине; гимнастерка — хоть выкручивай.
— Скорей бы вечер,— шептал сбоку Солоневич.— Не могу, совсем ослабел.
А в ответ только мерное шарканье десятков подошв, только тяжелое сопение, только глухой звон оружия, только резкая, сухая команда: «Не отставать! Подтянуться! Быстрее!» Залитые потом, потемневшие лица, лихорадочный блеск глаз, потрескавшиеся губы...
Лукашику казалось, что это бегство не имеет никакого смысла, что оно только оттягивает время, что не сегодня-завтра немцы догонят их и сотрут в порошок гусеницами своих танков и бронетранспортеров. Правильнее было бы не переть по магистрали, а свернуть в сторону, и если уж идти, то подальше от этого муравейника, который так притягивает вражеские самолеты.
— Дорогу, дорогу! — донеслись сзади крики.
Лукашик невольно оглянулся и свернул влево. Их догоняла полуторка, еще новая, зелененькая, кузов закрыт брезентом. Мотор чихал на малых оборотах, буфер медленно, как снегоочиститель, раздвигал живую солдатскую массу, а за машиной она снова смыкалась. В кабине сидели двое: один — грузный, с бритой головой, другой, за рулем,— молодой, в милицейской фуражке и, как показалось Лукашику, с заплаканными глазами. Вдруг какой-то боец с забинтованной головой уцепился за борт и прыгнул в кузов. Через минуту в машине очутилось с десяток раненых. Будто ощутив излишнюю тяжесть, она остановилась. Правая дверца открылась, показалась блестящая бритая голова. Человек в синей милицейской гимнастерке, которая трещала на его широкой груди, стал на подножку и, перекосив мясистое носатое лицо, крикнул раненым:
Читать дальше

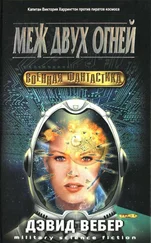

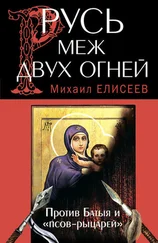




![Lutea - Меж двух огней - МАКУСА против якудза [СИ]](/books/397172/lutea-mezh-dvuh-ognej-makusa-protiv-yakudza-si-thumb.webp)



