Снова и снова его обсыпало песком, комьями земли, иссеченным клевером; то ближе, то дальше с визгом рвались бомбы и осколки со страшным свистом пролетали над его головой, а Лукашик лежал и, уткнувшись лицом в землю, ждал... Жизнь и смерть в равной мере были теперь хозяевами его судьбы, жизнь и смерть вели торг за его голову. Жизнь брала тишиною, шелестом ветра, запахом цветов; смерть оглушительно ревела моторами, скрежетала осколками, засыпала землею. Голос жизни тонул, пропадал, гибнул в хаосе этих диких, нечеловеческих звуков, и все-таки он жил и был даже сильнее этой похоронной какофонии, и в конце концов — победил!
Внезапно хлынула тишина...
Лукашик боится верить своим ушам, боится шевельнуться, чтобы не спугнуть ее, лежит и вслушивается, вбирает ее всеми клетками своего тела, пьет, как чудодейственный напиток и не может напиться. Только тогда по-настоящему оценишь жизнь, когда ее у тебя хотят отнять...
«Лежать или ждать команды?» — думает Лукашик.
И лежит, ждет, переполненный счастьем от сознания того что он жив, что цел, что смерть обошла его стороной.
Но вот долетел до него слабый стон и развеял всю радость короткого затишья.
Стонал кто-то совсем близко —- слышны были даже хрипы и бульканье в горле.
Лукашик приподнялся, огляделся вокруг. Кое-где из клевера тоже выглядывали головы. Там-сям на поле виднелись желтые заплаты — следы разрывов. Лукашик встал на колени, а потом, опираясь на винтовку, поднялся во весь рост. И в тот же миг ему снова захотелось сесть — так задрожали ноги и внезапная слабость охватила все тело. Он закрыл лицо ладонью, будто защищаясь от яркого света, но то, что увидел, стояло перед глазами.
Он встряхнул головой, стараясь развеять страшную картину,— напрасно: она засела в памяти, словно заноза. Почти на самом краю неглубокой воронки ничком лежал боец. Весь его правый бок от ног до головы был словно разрезан огромной пилой. И рядом лежал, тоже распоротый, со срезанным узлом, вещевой мешок бойца, отброшенный взрывом чуть подальше от воронки.
Лукашик постоял минуту, потом, волоча ноги по густому клеверу, пошел к дороге, так и не отнимая ладони от лица. Стонов он больше не слышал, слышал только шарканье ботинок и странно далекие голоса команды, хотя он знал, что люди еще недавно были тут совсем близко.
6
Теперь они уже не боялись самолетов — над их головами раскинули свои густые шатры вековые деревья. Бойцы шли не спеша, отдыхая душой после налета, который порядком выкосил их ряды. Шли хмурые, молчали угрюмо. Они почернели за эти дни, обросли бородами, обмундирование стало грязным. Брели раненые, выделяясь набрякшими кровью бинтами. Усталость и смертная тоска были в глазах этих бойцов, которые только и знали, что отступать, и еще ни разу не почувствовали окрыляющей силы победы.
Лукашик, раздувая ноздри, всей грудью вдыхал настоенный на лесных травах влажный воздух, шел, высоко задрав голову, любуясь раскидистыми кронами деревьев, порой срывал с березы листок, брал его в рот, жевал горький хвостик. Это как будто успокаивало, отгоняло мрачные мысли.
Мысли и в самом деле были невеселые. В голове все время крутился вопрос: до каких пор они будут отступать? Где та, вооруженная по последнему слову техники армия, которой мы так гордились недавно? Лукашику иногда начинало казаться, что ее и не было совеем, — если б была, не пришлось бы им вот уже который день без передышки идти на восток, бросая на произвол судьбы все, что не может убежать, чего нельзя забрать или уничтожить. Немцев теперь остановить трудно, никакие водные рубежи, никакие природные преграды, за которые можно уцедиться, не помогут измученным отступлением бойцам одержать такую лавину. Тут нужна хорошо подготовленная, глубокая оборона, сквозь которую не смог бы пробиться с первого удара этот стальной вражеский клин...
В сумерках поредевший батальон выбрался из леса. На опушке сделали привал, каждый взводный подсчитал своих бойцов, строго приказал никуда не отлучаться.
Отделение сержанта Букатова собралось вместе. Кто сидел на разостланной плащ-палатке, кто лежал прямо на траве, кто перематывал мокрые и вонючие от бесконечной ходьбы портянки.
Лукашик, глубоко задумавшись, сидел, опираясь спиной о шероховатый комель березы. Винтовку он повесил на тонкий березовый сук. Она опротивела ему и казалась совсем ненужной, так как ни разу не потребовалась для обороны, не выручала из беды, а только резала плечо, мешала ползти и бежать. С патронами проще. Лукашик высыпал их из вещмешка, остались только в патронташе, да и те не нужны. Но теперь Лукашик думал не об этом. Ему не давала покоя назойливая мысль, что сопротивление бесполезно, что зря они отступают, пора расходиться по домам. Это была страшная мысль, Лукашик боялся высказать ее вслух и даже оглядывался по сторонам — не замечает ли кто по его лицу, что на уме у него такая крамола?
Читать дальше

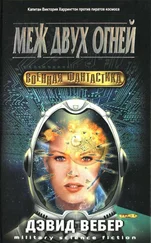

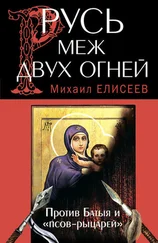




![Lutea - Меж двух огней - МАКУСА против якудза [СИ]](/books/397172/lutea-mezh-dvuh-ognej-makusa-protiv-yakudza-si-thumb.webp)



