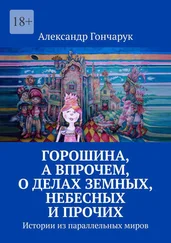«Это слава, — думал Алимардан, — моя мать была простой женщиной, одетой в грубый халат и платок. И у нас издавна ведется традиция, что народные певцы поют на свадьбах и празднествах для народа. Почему я должен лишить их счастья слышать меня близко, а не по радио, не по телевизору?..»
Как только он замолчал, все словно взорвалось — затрясли тюбетейками, застучали стаканами о бутылки, захлопали, кричали: «Яша! Яша!! Молодец!.. Рахмат!» Алимардан кланялся, приложив руку к сердцу, а к нему теснились люди с бокалами, чтобы выпить за его здоровье и сунуть ему под тюбетейку над ухом деньги — кто рубль, кто три, а кто и десять. Это тоже был старый обычай — одаривать музыкантов, певцов и танцоров.
Алимардан снова пил и снова пел, и снова ему совали под тюбетейку деньги, а он рассовывал их по карманам и пьяно хохотал. Он давно уже не пил так много, он был пьян. После, в машине, не стесняясь хозяина, он доставал деньги из всех карманов, из-за пазухи и считал. Вместе с «гонораром» он набрал за сегодняшний вечер триста пятьдесят семь рублей.
Мукаддам закуталась в одеяло так, что остался только нос, но все равно ей было слышно, как зловеще похрустывает, задевая по стеклу, снег, как ветер воет в перекрытиях айвана, как скрипит через равные промежутки ветка орешины. Ей было страшно. Чувствовала она себя снова девочкой, оставленной родителями, а замужество казалось ей игрой, выдумкой, и непонятно было только, зачем это она лежит сейчас одна в чужом, ненужном ей доме, и тоскливо щемило сердце. Хотелось заснуть, проснуться, оказаться дома — и чтобы ничего, свершившегося с ней за последние четыре месяца, не было. Ей стало жаль себя, и она заплакала. Часы в большой комнате пробили три раза.
Мукаддам провела ладонью по чужому, мешавшему ей собираться в постели в комочек, как она любила, животу и с неприязнью подумала вдруг, что она не понимает, зачем и что с ней произошло, и так быстро, зачем этот ребенок, который растет в ней и от которого ее тошнит уже, и болит голова, и лицо испортилось. А дальше будет еще хуже: пеленки, стирка, беспрерывное «вя-вя-вя!» — с утра до вечера. И никуда уже не уйдешь из дому беззаботно: ни в кино, ни на танцы, ни погулять… Она снова тоскливо пожелала себе заснуть и проснуться опять девочкой, потом суеверно испугалась этих мыслей, сказала вслух: «Аллах, прости меня!..» И положила руку на твердый, точно она проглотила маленькую дыню, живот. Под рукой что-то двинулось, словно внутри ручеек протек, и стало щекотно. Мукаддам испуганно отдернула руку и легла на спину, не понимая, что же там, внутри, произошло: может, он обиделся? Или ему стало тесно, когда она прижала его рукой?.. Если бы у нее была свекровь, она бы могла, разбудив ее, пожаловаться, поплакаться, расспросить, что все это значит. Но свекрови не было, висела только на стене увеличенная фотография, тускло поблескивающая отраженным светом. Если бы у нее была свекровь, она не чувствовала бы себя такой одинокой в те долгие часы, когда Алимардан уходил на студию. И сейчас.
Когда она как-то сказала об этом Лабар, та засмеялась: «Ты капризная, ты не ужилась бы со свекровью! Ругались бы с утра до вечера!» Ужилась бы… Здесь, в чужом доме, в то первое утро, когда Алимардан крикнул на нее, Мукаддам вдруг удивленно нашла в своей душе — в своем капризном, избалованном существе — умение смиряться, умение быть выше теперешней обиды ради чего-то большего. Видно, проснулась в ней память о бесконечном мудром терпении своих прародительниц, не жалком, рабском, а мудром, когда женщина все равно хозяйка в доме, а куражащийся и даже грозно поднимающий на нее в иные часы руку муж — всего только лишь отец ее детей, которых она рожает для будущего, а будущее — за ней… Она нашла бы со свекровью общий язык, они не ссорились бы: чего делить? Зря она ушла с работы, так тоскливо днем… И делать особенно нечего: ну сходила на базар, ну сготовила, ну убралась, а дальше что?… Книг у Алимардана было немного, газели классиков Мукаддам скоро надоело читать, а новые книги она покупать не решалась: Алимардан словно бы в шутку (а последнее время просто всерьез) спрашивал у нее отчета в каждой копейке, своих же денег у нее теперь не было. Последнее время Алимардан часто стал срываться, грубить ей, явно охладел к ней. Сегодня за обедом, когда она его о чем-то спросила, он грубо отрезал: «Хочешь есть — еда перед тобой, не хочешь есть — еда за тобой. А меня оставь в покое». Мукаддам хотела было обидеться, потом усмехнулась. Пусть его. Беременная жена — обуза для мужа, но вот родится сын, тогда мы посмотрим, как вы запоете, Мардан-ака!..
Читать дальше
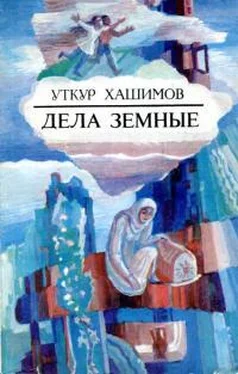


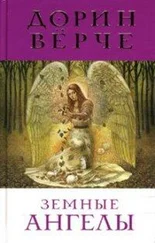

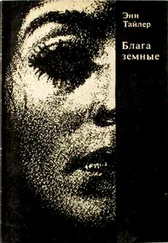
![Александр Эн - Сны земные [litres самиздат]](/books/437461/aleksandr-en-sny-zemnye-litres-samizdat-thumb.webp)