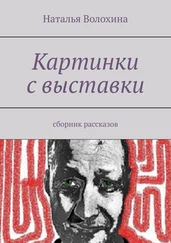— Она ведь, Танечка, идет рядом, а сама ни на меня, ни на людей не смотрит, — смеялся невесело Гайворонский. — Так и идет, красная, как пион.
Было однажды, не вымыла в свою очередь Ольга общий коридор и уборную. Соседка кричала в коридоре:
— Мы щи пустые хлебаем, а поляк пудами масло своим шлюхам таскает. А оне, бырыни с…, г… за собой убрать не могут. Дождутся, что я их за патлы срамные из комнаты выволоку, носом в дерьмо их ткну. Одни на фронте гибнут, другие как сыр в масле катаются, порасстрелять этих сук с их ворами вместях! Паскуды!
Соседи за глаза их с Танькой и вообще кроме как матерно не называли.
Передали ей письмо от Волота: «Оля, что же ты сделала над собой и надо мной? Говорили, что муж у тебя старый и что с тобою он не регистрированный. Не знаю, верить этому или нет. Что тебя заставило это над собой сделать?»
Пролила, пролила реки слез Ольга, кровавыми слезами умылась, сбылось предсказанное Волотом. Шла, и вслед ей смеялись, с вором жила и ничего уж от жизни не ожидала.
Почти два года ездила Ольга за Гайворонским, нигде долго он не удерживался, проворовывался, да и выпивал все чаще. Беременная, уехала к матери рожать. К Гайворонскому больше не вернулась — поддержали ее в этом родители, — к тому времени уже и отец из армии вернулся.
Ах, отец! И смех и грех: возвратился с войны, а с матерью не спит. Зазвал Ольгу в огород — поговорить, дочка, надо, — пошел вперед по дорожке, чтобы ей в глаза не смотреть, не то чтобы совета спрашивал, а поделиться хотел: что жил в последнее время в армии с женщиной, прилюбился к ней, решил с ней и жизнь доживать, ехал только посмотреть на них на всех, а вот теперь не знает, что и делать, как и быть, и к той тянет, и мамку жалко. Шла Ольга сзади отца, смотрела на седые волосы на его жилистой шее, и смешно, и жалко ей было: какая уж ему баба, старому их батьке, — вон штаны на худом заду свободно болтаются, ссутулился, осунулся, уже старик, считай, а тоже за любовь речи ведет.
— Што он тябе говорил-то? — едва вернулась Ольга в дом, впилась в нее взглядом мать. — О чем рассказывал-то?
Сидела мать, вцепившись в край столешницы, похожая не на свою, а на отцову мать. На беззаботное Ольгино: «Об хозяйстве говорил» смотрела недоверчиво, допытывалась шепотом:
— Как жил, не говорил, не рассказывал? Не спит ведь он со мной, доча. Може, болесть какая стыдная? Може, с бабой какой путался?
И больно, и стыдно было Ольге смотреть на старую свою мать. Обошлось все-таки, остался отец с ними. И мать, пряча от Ольги застенчиво-счастливые глаза, говорила деловито:
— Ничо, доча, ничо, все наладилось, слава богу.
А Ольга тосковала. Юрик подрастал, все меньше ее забот требовал. Но дел в доме не переводилось. Снова работала она на почте. Здесь хоть смеялась иногда да девок развлекала. То показывала, как старуха бестолковая, ничего не слышащая и не соображающая от страха перед телефоном, по междугородной связи кричит. То изображала, как модная жена завуча Анна Ивановна, а в прошлом Нюська из Подергачева звонит по начальству, прося лошадь на кладбище съездить:
— Аллёу, Альсау Палч? Здруасте, Анна Ианна вас беспокоит! О-у! О-у, вы сегда чтуо-нибудь скаажите! О-у! О-у, ну что ето вы, вы меня смщаете! Нельзя ли лшадку сыездить н клаадбище! О-у, школьная лшадка оклела! Нельзя? Ткая жалость!.. Девочки, отбой, дайте Задерина!.. Алле, Сидр Пытрович, это Анна Ианна, нельзя ли лшадку?
И все в этом духе. Главное тут было в перемежении томного разговора с начальниками и резких, отрывистых окриков телефонисток. Под конец Анна Ианна, правда, рявкала, не дождавшись отбоя:
— Но, Петр Ваныч… Что? Не-эт? Пойду пшком!
Девчонки покатывались.
А дома снова: поросенок, картошка, корова, гуси, огород, корыто, чугунки. Месяц — лето, остальное — грязь и снег. Когда-то носил ее в пургу на руках Волот — и вой, и свист метели были как музыка. Новый год тогда тоже был снежный — далеко-далеко все белым-бело было, и, словно еще мало, снег валил и валил, чтобы уж ничего небелого на свете не осталось. Какой радостный был тот Новый год, хоть и бушевала совсем близко война. А теперь хоть и вовсе не встречай Новый год, только сердце ноет: еще год прошел. Двадцать два еще не сравнялось, а кажется, все уже позади. Счастья-то уж точно не будет, это она знает. Да хоть бы уже не скука.
Танюшка замуж вышла за милиционера в поселке. Уговорила мать с отцом отпустить к ней Ольгу, работу ей подыскала — секретарем в нарсуд. Мать сомневалась, отец сказал:
— Мальчонку твово поднимем — начинай жизню сызнова. У нас-то, окромя женатых, один мужик, да и тот Евлаха-дурак.
Читать дальше
![Наталья Суханова Синяя тень [сборник рассказов : СИ] обложка книги](/books/430599/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s-cover.webp)