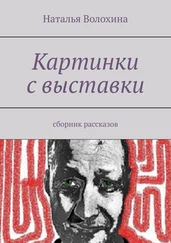— А где ж, — говорит, — моя фотография? — И голос вроде не его. Она только плечиком пожала. Отвернулся он, вроде заплакал.
— Ну, — говорит, — стерва, за одну мою слезу ты реки слез прольешь.
И выскочил. Она за ним. Он и не оглянулся. И на вечерке с другими девками танцевал, на нее и не глядел. Через три дня не вытерпела она, послала ему записку, чтобы пришел. Пришел Волот — а она и говорить не может, голос трясется. Взял он ее за подбородок:
— Ну что, настрадалась, дурочка?
А у нее слезы — кап-кап.
— Вот и я так мучился. Больше не будешь издеваться?
— А ты?
— Где уж мне издеваться — мне без тебя жизни нет.
Схватил в охапку и крутится по избе, и хохочет. Бабульки с печи:
— Спаси, господь-владыка, Басеньку уронит, нечистая сила!
— Во могута! Вольга-то в евонных руках что перышко!
— Не уроню! — кричит Волот. — Еще и вас, бабули, прихвачу, давно не кружилися! Через всю жизнь Оленьку пронесу, ногою о камень не приткнется!
А потом отправили их часть на Урал. Хотели они расписаться, с тем и к матери Ольгиной пришел Волот. А мать усомнилась: все же война, дождаться уж конца, тогда и жениться, да и молода Ольга, семнадцатый годок всего-навсего, любят, так не потеряются, коли сужены друг другу, никуда не денутся. И доверчивый, верный Волот согласился:
— Правильно вы, мамаша, сказали. Я люблю Олюшку, и она меня любит, значит, встретимся. Головы у меня не будет на плечах — только тогда я забуду Оленьку. Попомните мое слово, мамаша, за этим столом я еще буду сидеть. С Олюшкой. А домой ее привезу, все ахнут — какая у меня Оленька!
Оставил Волот вместо себя карточку: два бравых солдата — он и его друг Вано. А на обороте надпись: «Помни нас: меня и Ваню. А я тебя — верно говору — никогда не забуду». Так и написал, как говорил Вано: «верно говору».
Письма часто слал. И сердце колотилось, и смеялась, и плакала Ольга, получая его письма, и спала, положив их под подушку.
А в доме все голодней становилось, уже и куска хлеба другой раз не приносила домой мать. Бабка Паша нипочем не хотела верить, обшаривала сумки, прищуривалась на дочь:
— Не может того быть, чего быть не может: за так-то и дурак не работает.
Но больше, чем от бесхлебья, страдали бабушки по сахару. Как дети. Редкий раз, когда в доме бывал сахар и ставили самовар, они садились рядышком, непривычно чинные. Прежде чем взять чашку, баба Лукерья молилась, но делала это с невольной торопливостью. Прасковья радостными и жадными глазами ребенка следила за матерью, разливающей чай. Первые полкуска сахара съедала она быстро, зато потом начинала жадничать и норовила как бы по ошибке взять чужой кусок. Танька была настороже, а мама иногда делала вид, что не замечает исчезновения своего огрызка. Баба Лукерья на свахины проделки поджимала неодобрительно губы. В отместку ей Прасковья начинала почти неслышно рассказывать о каких-нибудь общих знакомых. Ольга и Танька хихикали.
Была у бабулек приятельница — старуха, приехавшая в дом напротив к дочери из-под Ленинграда. В дни потеплее болтали три старухи на скамеечке либо на крыльце.
Как же взволновались бабульки, когда новая знакомая пригласила их к себе на чай!
С самого утра не находили они себе места.
— Эва, сдурели! — крикнула Танька, которую чуть не сбила с ног занятая нарядами баба Луша.
Ольга уж образумливать бабулек взялась:
— Что это вам, мирное время? С какого такого богатейства на чужих старух станут сахар тратить? Да и кто она сама, ваша баушка? Живет из милости, прикатила в такое время. Да не верьте вы, какой чай! Она вас на после войны позвала, понятно вам?
Ух, как разошлись бабушки, забыли, что и любимица ихняя:
— На после войны! Для вас-то, может, будет энто «после», а мы, глядишь, уже дух испустим. «Кто такая» — антилегентная старица! Ее дочка сильно уважает — ни в чем не перечит. Не то что некоторые!
— А завидно, завидно, завидки беруть! Вас-от нихто на чаи не зовет — обхождения не знаете! Эти люди — не вам чета: родительниц уважают, старость греют. Кто старого холит — тому, може, сто грехов простится!
— Да оставь ты их! — вмешалась Танька. — А то они и драться полезут, с них станется!
И теперь уж на Таньку набросились разошедшиеся старухи.
Вечером бабка Лукерья добрый час тяжело крутилась перед зеркалом, оглаживая на животе и на боках свои юбки, поправляя косынку на голове. Прасковья, виляя подолом, бегала к окну посмотреть на соседский дом и шипела на Лукерью, что из-за нее они опоздают. Мать, забежав домой на минуту, рассердилась, что бабки собираются нахлебничать, но встретила отпор. Бабка Паша визгливо на нее раскричалась: не для того-де она ее родила, кормила, ночей не спала, чтобы теперь такое сносить. А бабка Лукерья вдруг расплакалась. Мать и сама всплакнула и сунула им в карманы по куску сахара.
Читать дальше
![Наталья Суханова Синяя тень [сборник рассказов : СИ] обложка книги](/books/430599/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s-cover.webp)