— Как это понять?
— На основании чего?
Но Боб уже открывает и протирает пианино, заезжий студент высвобождает из чехла гитару. Боб перебирает клавиши, и студент поёт:
Начинаются дни золотые
Воровской непроглядной любви —
Крикну: «Кони мои вороные,
Чёрный ворон и кони мои!»
Уж не о них ли это с Владом?
Мы ушли от проклятой погони,
Перестань, моя крошка, рыдать…
Через несколько буйных песен студента Боб мягко выводит аудиторию к романсам.
Я встретил Вас, и всё былое
В душе отжившей ожило…
— Ехал вчера с работы и вспоминал свою любовь, — тихо выговаривает Джо. — Не дотянул я до конца. Ни кровопролития, ни самоубийства. Нет трагедии — есть мелодрама. Вспышка. Катарсис. И пепел от катарсиса. Всё было — ничего не осталось.
И ширится разговор:
— Петро, — ну, ты знаешь его, — он нашёл своё место в жизни, любит свою работу и ни на что не променяет её, но есть в нём какое-то мещанство. Вот семья, работа — и всё.
— Что такое любовь? Шёл я однажды по улице — навстречу шла девушка и улыбалась. Был солнечный день, деревья все в зелени. Ей было тогда восемнадцать лет, мне девятнадцать… И вот, я шёл по той же улице, навстречу шла женщина с ребёнком… И улыбалась. Я даже не сразу понял, почему она улыбается… Не узнал. Прошло десять лет.
— Ты самый несчастный из нас — ты не нашёл себя.
— Я о чём говорю? Вот увидел грудь любимой девушки — и руки онемели.
Покачивает головой, пальцами пробегая по клавишам, нащупывая давний романс, Боб.
И:
Ночи безлунные,
Ночи безумные…
У них с Владом были не ночи — вечера до прихода Джо. Он давно им вручил ключ от своей каморки и регулярно сообщал часы своих лекций.
Приходили сюда они порознь и проскальзывали по возможности незаметно.
Света не зажигали. В вымороженной за день комнате поспешно включали болванку, но она ещё только раскалялась, а они уже стелили постель.
В раздевающихся всегда есть согбенность, снимают ли платье или рубаху, сдёргивают ли исподнее, стягивая через голову, с закрытым лицом, скрещенными руками, с усилием и неловкостью — торопливые и скорченные.
И обнажённое тело скрючено в торопливости юркнуть под одеяло, пряча костяшки, горячий живот и холодные ступни, худобу и мясистости, оголённую кожу и волосистости.
И — согреть и осязать всё, до этого спелёнутое одеждой. И сладостны пушистые персики ягодиц, и выступы костяка бёдер — для опоры твоих рук. И бежит рука, шелковя кожу. И всё это близится, падает в её тяжелеюще-томное, нежно-тянущее, ждущее, нетерпеливое, распаляющееся нутро. И — плечи, целуй мои плечи. Это самое нежное существо моего тела, ничто другое так не чувствует рук твоих и поцелуев, и своей прекрасности под ними. Губы — да, губы тоже нежны, но они возвращают поцелуи и очень скоро обнаруживают влажность языка, и язык не просто влажен, он беспокоен и ненасытен — это тяжелеющее нутро заявляет о себе.
Выпроставшись из-под одеяла, они вжимались друг в друга, дрожали руки и выгибались тела. И вот они уже не глядели, не видели, были не здесь, не снаружи, бились друг о друга — сильнее, ещё глубже, достань же, достань меня, ты здесь? Я здесь — ещё, ещё! И — вспыхнули, возрадовались!
Нет-нет, ещё не оставляй меня, ещё говори, как ты меня любишь, ещё будь во мне, ещё продолжай целовать — всю, всю!
И со дна наслаждения, знаешь, что всплывает? Твои глаза, их свет.
Голые, в ледяной комнате, где медленно раскаляется болванка, — быть бы здесь — так вместе — до утра, чтобы утром снова ощутить тяжесть и нежность во чреве, и увидеть, вынырнув из безвидного, пышущего пламени, твои глаза.
Казалось, Ксения уже так много знает о любимом. Самое главное она, пожалуй, знала, едва полюбив — знала, что без него она не может жить. Но ведь сколько раз: сначала не можешь, а потом можешь. Она уже никогда не смогла. Не могла. Но никогда не знала, почему это так.
Он, несомненно, был умён, но как-то иначе, чем она или Джо. Он был несомненно некрасив, но оказывалось, именно такой он нравится девочкам. И она его любит именно таким. Некрасивость как особенность, останавливающая глаз? Или как что-то, соответствующее его уму и характеру? Соответствующее частой непонятности того, что он говорил — иногда он бывал как-то косноязычен даже, и при этом каким-то образом убедителен. Такое нередко считают знаком гениальности. Но её ведь никогда не ослепляли ни странность, ни вроде бы недоступность чьей бы то ни было мысли. Скорее дразнили. Так может быть, именно в этом была привлекательность, для неё, во всяком случае, этого мальчика? Даже перечеркнув какую-то его мысль, убеждённая в своей правоте, она возвращалась к сказанному или написанному Владом, недоумевая, в чём же столь ощущаемая сила его мысли. Господи, и это при том, что сегодня он говорил одно, а завтра обратное. Или одно и то же, но по-разному? Иногда он совсем запутывал её. Иногда (и так ли уж редко?) он бывал потрясающе глуп. Иногда попросту раздражал, злил. Категоричностью, совершенной уверенностью. И при этом очень странное было у неё чувство: совсем же зелёный мальчик — и ощущение его старшинства. В какой-то степени это могло объясняться его обширным знакомством с литературой, философией, историей, науками, удивительной даже для неё, читающей всю свою жизнь, а прожила она чуть не вдвое больше его. Казалось бы, это могло быть обыкновенное юношеское верхоглядство при хорошей памяти, но нет, он хорошо владел добытым, и мысль его по-своему продолжала и претворяла текущую мысль других. И чуть ли не природная одарённость. Своя — даже не Илимычева. А больше вроде бы неоткуда было получить.
Читать дальше
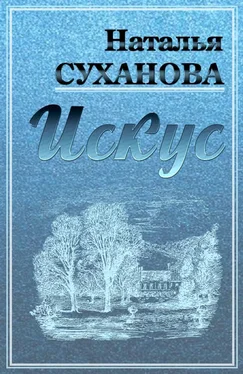







![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)