В завершение писем следовали «шутливые» вопросы: как она устроилась, сделалась ли уже настоящей москвичкой, занимается ли прилежно, умеет ли прятать ум и характер, а то у нее слишком много и того, и другого, наконец — не завелось ли у нее «амуров» (мамин стиль!). Впрочем (многозначительная приписка), мама знает, что Ксения, хотя и кокетка (?!), но амуров у нее нет.
Увы!
* * *
Узнав, что на зимние каникулы Ксения едет с подругой в Ленинград, Людвиг воодушевился, наметил им маршруты, ходил, взволнованный и радостный, по комнате:
— О-о, вы увидите, это город, которому равного нет в мире. Города вообще, как люди, неповторимы. Но этот — особенный. Этот вы узнаете в любом его месте, этот вы уже никогда не спутаете.
От воодушевления он даже почти не заикался. Говорил, говорил. И снова возвращался к своим чертежам, уточняя, откуда они должны увидеть Смольный и откуда Биржу, откуда Старую Голландию и откуда Адмиралтейскую Иглу.
В Ленинграде, едва оставив вещи у родственников (еще сонных, еще полумертвых, еще не вошедших в мир, в то время как уже царила заря!), они поехали к набережной: по одну руку Нева, по другую — дворцы. Втайне Ксения была удивлена, что дворцы в Ленинграде без башенок и шпилей: с детства она представляла дворцы обязательно готическими. Дворцы в Москве готическими не были, но там ее это не удивляло — Москва была бытом, и трудным. Дворцы у Невы оказались большими, дисциплинированными, выравненными друг по другу домами. Слегка обескураженная, она, однако, о своем детском заблуждении не сказала даже Милке.
Дни стояли холодные и туманные. Милка, не противясь, ходила за Ксенией по всем начертанным Людвигом и путеводителями маршрутам, но, сократись они вдвое, явно не возражала бы. Если Ксения была одержима тревогой, что именно там, куда не успели они заглянуть, скрывается лучшее, Милка, по-видимому, не сомневалась: все стоящее непременно попадется ей на глаза, а если не попадется, вполне достаточно и того, что уже попалось. Обнаружив в очередном зале Эрмитажа нечто достойное ее внимания, Милка не только не спешила дальше, но даже на то, что приглянулось ей, долго смотреть не утруждала себя.
— Вот здесь хорошо, — говорила она. — Это мне нравится! — и глазела по сторонам. Но перед уходом обязательно подходила еще раз взглянуть на приятную ей картину. С равным удовольствием Милка смотрела на хорошие картины, ела в хороших кафе и отвечала на заинтересованные взгляды.
В Москве даже очень хорошенькая Милка не часто могла рассчитывать на внимательный взгляд, тем более на готовность разговориться. Здесь же словоохотливых, внимательных, заинтересованных людей было сколько угодно. Ксения с удовольствием отпустила бы Милку с одним из этих славных студентов или морячков, но Милка почему-то считала не то чтобы неприличным (на это Милке наплевать), но компрометирующим ее в глазах самих домогающихся — идти на свидание одной. А Ксения уперлась — боялась перевести Ленинград на ничтожное. К тому же ей досаждала роль дурнушки-приятельницы.
У нее были свои свидания. Куда бы они ни ходили, хоть раз в день она должна была увидеть купол Исаакиевского собора. С разных точек, всегда неожиданно, выплывал на нее этот купол, и великая мрачная радость (именно потому великая, что был этот оттенок мрачности) вспыхивала в ней, обжигала ее. Она забывала себя, забывала свою несчастную влюбленность. Забывала — не то слово. Боль ее сердца и восторг словно необходимы были друг другу. Без боли восторг не был бы так глубок и полон. И без этой, тяжело блеснувшей позолоты купола ее боль была бы просто ничтожной болью одной из тысяч девиц, обманутых в нехитрых своих ожиданиях.
После Исаакия Ксения подолгу бродила сомнамбулическая. Впечатление было сродни картинам Рембрандта (не тем почему-то, которые здесь, в музее увидела, а тем, что показывал в репродукциях Людвиг) и еще — властным глазам божественного младенца на руках у Сикстинской мадонны (и ее завороженному, с расширившимися глазами взгляду). Все больше Милка мешала ей. Ведь нужно было, минуя расспросы, не только каждый день снова выйти к собору, но и вновь поймать и продлить мгновенный ожог восторга, уловить властный взгляд бога и привести его в соответствие с продуманным в эту зиму: о том, что не надо себя обманывать, нужно честно признать — смысла нет ни на земле, ни в небе, нет смысла в человеческом понимании этого слова, вселенная не рассчитана на людей, они — маленькая случайность в ее неживой, глухой, беззвучной закономерности. И о том, — но это в конце, — что, может быть (пусть вероятность ничтожно мала), смысл все-таки есть, недоступный еще человеку.
Читать дальше
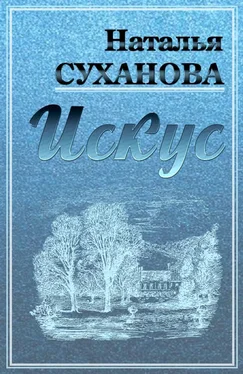







![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)