Я сошел с ума. Я это хорошо понял. Неадекватность поведения… Плыть по следу инверсии — больная фантазия. Да, да…
— Куда ты собрался? — спросила Маша. Она лежала. Прозрачно-бледное лицо. Одышка. У меня тоже. Мы привыкли.
— Я пойду посмотрю, как строят, — сказал я.
— У тебя есть силы? — тихо спросила Маша и, помолчав, добавила: — Скажи, Спасеных, нужны ли такие люди, как мы с тобой?..
— Может быть, мы урок?.. Но кому он нужен?.. — ответил я вопросом на вопрос и ушел.
Давление было за двести. Меня шатало. Но я непременно должен был посмотреть — каким образом можно подойти к вентиляционной трубе атомной станции и как добраться до лестничных скоб, вмонтированных в ее железобетонную плоть…
Последнее время, когда меня приплющивало слабостью к койке, вслед за длившейся часами пустотой… Хотя… Впрочем, это была не совсем пустота, а будто тебя всего изнутри наполнили киселем или желеобразной массой… Оболочка из тонкого мяса и кисель внутри… Смешно, не правда ли?.. Когда я представил, почувствовал это, я долго смеялся…
Маша спросила:
— Ты смеешься, Спасеных?
Я не ответил, потому что испытывал странное внутреннее сопротивление любому своему действию, не связанному непосредственно с навязчивой идеей. Будто мне душу прибили гвоздями к доске, а вместе с нею и язык.
Я продолжал смеяться. Маша отвернулась к стене. Но на боку было тяжело лежать, и слабость снова придавила ее плашмя, перевернув на живот.
Потом вдруг я увидел странное видение. Оно пришло издалека, из яви. Когда-то я видел фильм, как огромный удав заглатывал козла. Это было отвратительное зрелище. Рот удава растягивался, растягивался, утончался и, наконец, превращался в тонкую пленку и, как мешок, наползал на бедного козла…
Когда я лежал ниц и слабость раздавливала меня, а внутренняя тупость, бесчувственность переходила наконец в мерзкое ощущение заполненности всего моего нутра желеобразной массой, я начинал воображать себя оболочкой. Потом являлся образ удава…
Я стал обволакивать себя, потом Машу… Мне этого казалось мало. Я заглатывал сильно растянувшимся ртом, точь-в-точь как тот удав, всю мебель, потом дом… Но внутренняя сосущая тоска не унималась, и я решил, что, натренировавшись, я рано или поздно проглочу атомную станцию и весь город. Тогда я успокоюсь…
Потом все снова расплавлялось во мне, и я, обессиленный своим безумием, которое вызвано моей лучевой болезнью и которое я трезвым умом наблюдал со стороны, затихал.
Мы жили уколами. Делали друг другу. Обе ягодицы у меня и у Маши густо исколоты и усыпаны черными точками, следами ежедневных инъекций. Когда проводишь по этим корочкам рукой, царапает, будто наждаком.
Перед тем как колоть, я приподнимал ей халат и приспускал трусы. Со странным чувством смотрел я на Машины ягодицы. Они были какие-то неживые, бледно-синие, и черные точечные следы уколов контрастно выделялись. Это было больно видеть. У меня подступал спазм…
— Не смотри, — шептала она.
— Я не смотрю, милая, не смотрю…
Укол немного оживлял ее. У нее ненадолго появлялся в глазах теплый блеск…
Но я сошел с ума. И тело теперь само вело меня. А ум, здравый и холодный, наблюдал…
Я подошел к атомной электростанции со стороны леса. Временный дощатый забор возле строящегося второго блока местами обвалился, и я свободно прошел на территорию АЭС. Подойдя к вентиляционной трубе, я увидел, что скобы начинаются высоко, не дотянуться. Я поискал глазами вокруг. Около здания азотно-кислородной станции, вдоль стены, лежала ржавая железная лестница, сваренная из труб. Я запомнил, где она лежит, сопоставив ее местоположение с крупными предметами…
Я знаю, когда прийти. Когда никто меня не увидит. Когда будет низкая облачность и на высоте пятидесяти метров венттрубы уже не видать… Только бы добраться мне до облачности! А там — меня не достанут! Я проверю границы следа инверсии. Если он приходится на мой дом — крышка!.. И те крохи жизни, которые остались, вскоре исчезнут. Уколы не помогут… А мы с Машей, как ни странно, цеплялись еще за жизнь… Зачем?..
Я был уже маленький, синюшный сморщенный старикашка с истонченными гладкими седыми волосами… Мне было сорок шесть лет… А Маша… Порою она вдруг, как вспышка, являлась передо мной молодой, смешливой, краснощекой, рыжеволосой. Как вспышка… И боль сдавила мое сердце… Теперь она седая, сухонькая, с гримасой застывшего страдания старушка с редкими иссеченными прямыми волосами… Ей сорок два года…
Читать дальше
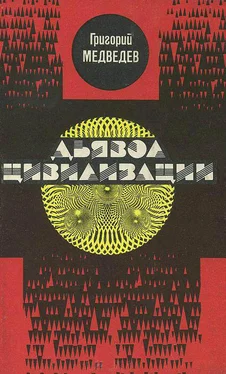

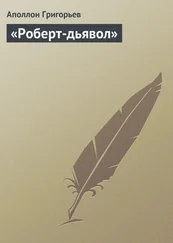

![Филип Фармер - Растиньяк-Дьявол [= Дьявол Растиньяк]](/books/317634/filip-farmer-rastinyak-dyavol-dyavol-rastinyak-thumb.webp)
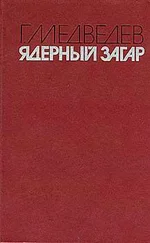

![Григорий Медведев - Лицей 2017. Первый выпуск [антология]](/books/408123/grigorij-medvedev-licej-2017-pervyj-vypusk-antol-thumb.webp)


