Уже начинало светать, когда он подошел к дому Шалой. Он вошел во двор со стороны огорода и постучал в окно.
В избе загорелся свет. Потом открылось окно, и Мария Шалая, одинокая пожилая женщина, выглянула во двор. Плечи и грудь ее были укутаны платком.
— Кто тут? — спросила она негромким спросонья голосом, но уже в ту самую секунду, как спрашивала, она увидела стоявшего у стены Минаева с деревянным сундучком и узлом в руках. — А-а, — протянула она не то обрадованно, не то разочарованно, — прибыл? Здесь Алевтина, у меня. Ты погоди, я сейчас отворю.
Минаев подошел к крыльцу. Но дверь открыла ему не Шалая, а Алевтина. Она с минуту стояла, держась рукою за косяк, не приглашая мужа и сама не двигаясь навстречу ему. На ней было вылинявшее и по-старушечьи широкое ситцевое платье, то самое, в каком она была одета тогда, в день пожара, и какое было теперь единственным у нее. Луна, низко висевшая над соседней крышей, хорошо освещала ее давно уже располневшую и ставшую теперь, к старости, неуклюжей фигуру и готовые вот-вот заплакать глаза, и Минаев, как ни был он озабочен собой, как ни охватывал его страх перед будущим, перед тем самым людским возмездием, которого он боялся всю жизнь и которое висело теперь над ним готовой оборваться каменной глыбой, — Минаев с грустью посмотрел на Алевтину. В какое-то мгновение, как это случилось с ним несколько часов назад, когда он с гребня увидел родную деревню, он как бы сразу представил себе всю свою прожитую с ней жизнь, в которой были только ненависть, ожидания и мучения и в которой не было ни обычной человеческой теплоты и ласки, ни любви, нежности и согласия, что украшает и расслабляет душу; он вдруг почувствовал, что не принес ей, этой стоявшей перед ним в дверях женщине, счастья, не принес радости, хотя, как ему казалось сейчас, думал только об этом и стремился только к этому, и ему тяжело и мучительно было за нее. «Этого ли я хотел? Да этого ли я хотел?» — подумал он, болью ощущая это прокатывавшееся в нем чувство. «Но я ли не мог? Или мне не дали? — тут же проговорил он, как бы возражая себе и заглушая вспыхнувшую минутную жалость. — Не дали, слышишь, не дали», — мысленно продолжил он, напрягаясь и щуря глаз и снова весь проникаясь ненавистью к людям и страхом перед возмездием. Он стоял и смотрел на Алевтину, не выпуская из рук сундучок и узел и чувствуя под рубашкой тяжелый и холодный сверток; он ждал, когда она подойдет к нему. Она подошла, прижалась к его груди и сначала заплакала как будто тихо, робко и покорно, но тут же вдруг заголосила громким и надрывным, как на похоронах, криком.
— Что же ты со мной сделал!..
— Ты что? Ты что? Эть услышат, — торопливо заговорил Минаев и, бросив сундучок и узел и обхватив Алевтину за плечи, потянул ее на крыльцо, к раскрытой двери. — Об этом ли сейчас надо думать? Пойдем в избу.
Уже в избе, немного успокоившись, Алевтина сказала:
— За тобой приходили, спрашивали, куда уехал.
— А ты?
— Сказала — не знаю. Ушел покосы искать. Ушел, и с концом.
— Эть, искали, значит.
— Да.
В то время как Минаеву казалось, что все люди в Федоровке, те самые его односельчане, работавшие в колхозе и жившие неприемлемою для него, но согласною, привычною и приемлемою для них своей жизнью, думали лишь о нем, Минаеве, и были заняты лишь тем, чтобы найти и осудить его, — совершенно иные и далекие от минаевского мира дела и заботы волновали в это утро федоровцев. Как обычно начинался в деревне трудовой день, так он начался и сегодня, и когда солнце, полоснув светом по желтевшему за хлебными амбарами пшеничному полю, потянулось вверх, к зениту, все уже было в движении и на полевых станах, и на ферме, и в ремонтных мастерских, все, включившись в неспешный трудовой ритм деревни, жило своею обычною, озабоченною и деловою жизнью.
Возле школы, на площади, пильщики шли уже по четвертому срезу.
Но Минаев все еще мучился и не мог решить для себя, как ему поступить: уйти ли в бега, как он говорил себе, определяя этим одним словом все то, как он будет жить, если не явится в сельсовет, а уедет из деревни, прихватив, разумеется, откопанное золото, или (как советовала Шалая и на чем особенно настаивала Алевтина) пойти ему к Федору Степановичу и рассказать все?
— Дело-то прошлое, — говорила Шалая.
— Ведь ты же не стрелял ни в кого, — говорила Алевтина. — Так чего же боишься? Так и скажи.
Женщинам вопрос этот представлялся простым и ясным: «Не стрелял, значит, простят, не осудят», — но для Минаева, слушавшего их разговоры, все было иначе, сложнее и запутаннее; он не мог думать, что его простят; перед ним все время как бы стоял весь тот страшный мир могильщика, каким он жил, и он чувствовал, что нельзя, что невозможно было людям простить это; то значение, какое он сам придавал своим делам, ему казалось, должны были придавать и все люди, и потому он со страхом думал, как они (главное, председатель сельсовета Федор Степанович Флеров) теперь, если он придет к ним, встретят его. Но и решение — уйти, скрыться из деревни, какое он принял еще вчера днем, когда лежал в кондратьевском сарае, уже не казалось ему верным и единственным; он начинал думать особенно сейчас, когда женщины ушли по своим делам, на работу, и он остался в доме один, что уезжать ему действительно некуда, что нигде и никто не ждет его и что — где бы он ни объявился — «Не в лесу же жить!» — его сейчас же найдут, и тогда уже не будет ему никакого снисхождения. Он ходил по избе, сгорбленный, бледный, и то и дело, останавливаясь у окна, чуть отодвигал шторку и смотрел на пустынную улицу. Руки его не дрожали, как в первые часы, когда он узнал о сгоревшем доме и взрыве, его не лихорадило, но вся дрожь как бы переместилась теперь в глубь его, в душу, и это было еще мучительнее для него; он не замечал, как время от времени он тихо и сдавленно стонал от злобы и бессилия, что он уже ничего не сможет сделать, чтобы, как он думал: «Стать над ними!» «Ну что ж, ваша взяла, эть ваша взяла», — лишь говорил он себе. Он был в том состоянии, когда ему было ясно одно, что наказания ему не избежать, и его мучил лишь вопрос, каким будет это наказание; он думал об этом, весь напрягаясь и чувствуя в ладонях проступавший холодный пот, но вместе с тем, как он рисовал себе картины суда и ареста, все для него оставалось неопределенным, и неопределенность эта как раз и была для него невыносимой. Он не мог долго оставаться в избе и вышел во двор — пусть увидят его и пусть придут за ним, только бы все решилось и кончились эти мучения; он походил по двору, постоял у ворот, прошелся по огороду, будто вглядываясь в ботву и капустные листья, но более осматриваясь по сторонам; он почувствовал ту минуту, когда его увидели с улицы и увидели от соседей, но время шло, а никто не приезжал за ним. Тогда он вышел на улицу и сел на скамейку у палисадника, но никто как будто и здесь не обращал на него внимания, люди проходили, занятые каждый своим делом, проезжали на арбах, на бричках, и Минаев растерянно и страдальчески смотрел на них; вокруг него, он чувствовал, как будто образовывалась какая-то пустота, и пустота эта пугала его. Наконец он не выдержал, встал и пошел в сельсовет.
Читать дальше
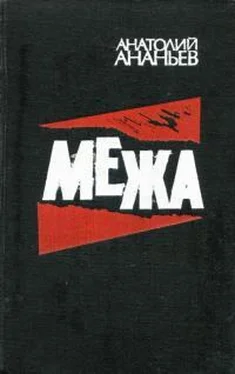
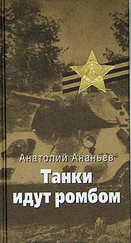




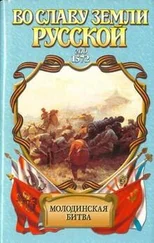

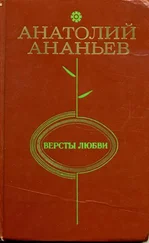
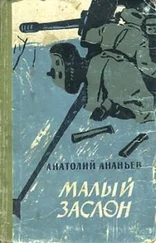

![Анатолий Ананьев - Танки идут ромбом [Роман]](/books/404190/anatolij-ananev-tanki-idut-rombom-roman-thumb.webp)
