Но славными, в сущности, они стали для нее потом, когда она узнала их ближе и как бы вошла в их жизнь. И произошло это не сразу. Она помнила, как на другой день после приезда, утром, она проснулась в доме одна. Было около десяти, солнце сквозь тюлевую занавеску заливало ярким светом комнату; ни шагов, ни говора, ни шума, лишь на стене, удар за ударом, ровно и громко тикали ходики. «Что же он не разбудил?» — было ее первой мыслью. Она еще несколько минут лежала, прислушиваясь и ожидая, что кто-нибудь войдет, и постепенно тревожное чувство начинало охватывать ее, теперь, вспоминая, она в душе улыбалась над собой, но в то утро, когда она встала и прочла оставленную Егором на столе записку: «Не сердись, Шура, я по срочному делу в Талейск. Скоро вернусь», — ей было неприятно и тоскливо. «В первый же день он уехал и оставил меня одну. Какие могут быть у него дела? Почему он ничего не говорил раньше? И вообще зачем привез сюда? Привез… бросил…»
Она оделась и вышла во двор; она обошла весь маленький двор, оглядела сад, надеясь увидеть Прасковью Григорьевну, но нигде никого не было; она села на лавку под окном, тихая и грустная, и стала поджидать Егора. По двору перед нею, разгребая мусор, бродили куры; за яблонями — сквозь листву было хорошо видно — прогромыхал зеленый пассажирский, состав; под крышей, прямо над нею, гудели осы, облепив свое, как шляпа подсолнуха, гнездо. Подымавшееся над яблонями солнце начало уже припекать колени; она и теперь, вспоминая, чувствовала это тепло — так ясно представляла себя сидящею под окном; она не встала, а спокойно и равнодушно смотрела на входившую во двор Прасковью Григорьевну. «Она уже обошла свой участок, уже с работы, — думала Шура. — И так каждое утро!» В мужском железнодорожном кителе, с большим гаечным ключом, висевшим, как автомат, за спиною, с сумкой, из которой торчали выцветшие зеленый и красный флажки, Прасковья Григорьевна показалась Шуре крупнее и суровее, чем вчера. «Что она скажет, боже мой, о чем я буду с ней говорить? »
«Ну, как отдыхалось?» — спросила Прасковья Григорьевна, останавливаясь перед ней, снимая с плеча сумку и тяжелый гаечный ключ.
«Спасибо, хорошо».
«Ждешь?»
«Жду».
«Ничего, ты на него не обижайся. Он по делу, и очень серьезному».
«Какое у него может быть дело, которого не знаю я?» — подумала Шура.
«Пойдем-ка лучше ставить самовар да завтракать, а какое дело, я тебе расскажу».
Пока готовили завтрак и потом, когда уже сидели за столом и пили чай, Прасковья Григорьевна неторопливо, с подробностями, которые хорошо помнила, рассказала Шуре о том, что произошло на разъезде зимой сорок второго года, как подошел эшелон с эвакуированными, как в этой самой избе, в которой они сидели теперь и пили чай, было полно женщин и детей, как люди, сменяя друг друга, входили в комнату, отогревались и снова выходили на стужу, как прибыл санный обоз из деревень; потом — пурга, мороз, свезенные к разъезду закоченевшие тела, и вот теперь — это кладбище с каменными плитами и оградками на взгорье. Как когда-то, после рассказа покойного Епифаныча, вставала перед Егором картина тех далеких зимних дней, — вставала и разворачивалась теперь эта картина перед Шурою; особенно жалко было ей оставшихся в Криводолке детей; она с затаенным дыханием слушала Прасковью Григорьевну. Потом Прасковья Григорьевна показала ей письма, которые получала от тех самых уже ставших взрослыми детей, чьи матери были похоронены на этом кладбище; эти письма сейчас как будто снова лежали перед глазами Шуры. Она рассматривала и читала их; среди них попались ей и письма Емельяна Захаровича Богатенкова. Она сразу, еще не расспрашивая Прасковью Григорьевну, только прочтя знакомую фамилию, увидев знакомый почерк и, главное, увидев адрес на конверте, поняла, что это писал подполковник Богатенков. «Знает ли Егор? Он никогда ничего не говорил. Знает ли Прасковья Григорьевна, что здесь похоронена жена нашего подполковника? Мать Николая? Боже мой, знает ли Егор?!» Это открытие еще более всколыхнуло Шуру; вечером, когда приехал Егор, она тут же показала ему богатенковские письма.
«Ты знал?»
«Нет».
«И подполковник не знал?»
«Разумеется, иначе бы он…»
«И Николай? Ведь он ехал с нами! Егор, милый, мы все должны сделать, чтобы не распахали кладбище».
Сейчас, стоя у кухонного окна, она чувствовала себя в том состоянии, в каком она произносила тогда эти слова. Но она видела теперь, что слова те были излишни, что судьба кладбища и без того волновала всех, кто жил на разъезде, и все они, как выразился бывший начальник разъезда старый Фотич, вели войну с лесопосадчиками. Они отстаивали кладбище. «Проще простого, — говорили они, — посадить вручную деревья по кладбищу». Но как раз этих ручных работ и не было предусмотрено в плане лесопосадки, а все должно было делаться машинами: и подготовка почвы, и посадка, и последующая обработка загона. «У нас план, — говорили лесопосадчики, — вот, пожалуйста». Они соглашались не распахивать кладбище лишь в том случае, если будет пересмотрена смета и отпущены дополнительные средства. Добиться же этих дополнительных средств было не так-то просто. Все в области как будто были согласны, что кладбище нельзя трогать, никто не противился, но и решение не принималось, дело затягивалось, и Егор, включившись в борьбу, целыми днями пропадал в Талейске, добиваясь решения. С разъезда звонили в управление дороги и в другие разные инстанции, а старый Фотич уходил на кладбище и на виду у бригадира лесопосадчиков поправлял могилы и красил оградки.
Читать дальше
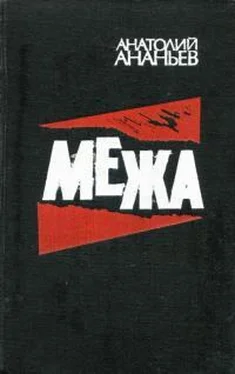
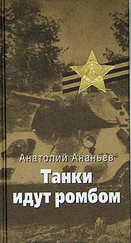




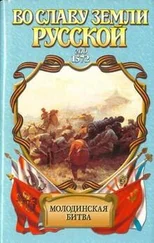

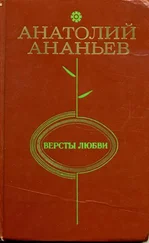
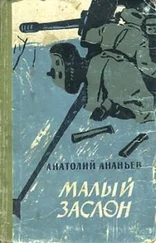

![Анатолий Ананьев - Танки идут ромбом [Роман]](/books/404190/anatolij-ananev-tanki-idut-rombom-roman-thumb.webp)
