Но радость председателя была преждевременной — он тут же разочаровался, услышав, что сказала Аленка:
— Все это поскорее надо сделать, вот тогда мы с полным удовольствием пойдем работать в коровник.
— На готовенькое? Может, еще «приданое» преподнести?
— И с «приданым» и без «приданого» — все равно не ждите. На такую должность и без десятилетки можно сдать экзамены. Подумаешь! — с наигранным высокомерием проговорила молчавшая до сих пор Наташа.
— Барство! — краснея, отчеканила из-за стола секретарь райкома.
Собрание началось бурно. По сути говоря, был «оставлен всего лишь один вопрос — о поступке девушек, бросивших комсомольские путевки. Ваня Пантюхин категорически и безапелляционно настаивал исключить Наташу и Аленку из комсомола.
— Вы им не верьте, Нил Данилыч: на словах они — в небе, а на деле — дома за печкой. Стыд и позор нашей школе за то, что выпустила таких белоручек! — встряхивая чубом, все сильней горячился Ваня. — Какие они комсомолки? Вполне справедливо кто-то сказал тут: отступники! Другого слова не подберешь.
…Собрание открытое, в клубе полно народу, среди ребят и девушек сидят учителя с нахмуренными лицами. Иван Павлович встал и, не скрывая горечи, коротко сказал:
— Государство учило вас, расходовало деньги, а вы что сделали для государства? Ничего! Разве так комсомольцы поступают? Ведь совсем недавно, прошлой зимой, я сидел за учительским столом, а вы на классной скамейке, а теперь эта скамья стала для вас местом позора. Думал ли я тогда, что так случится? Нет, я верил в вас, я любил вас, я желал вам лучшего, желал удачи, а выходит — ошибся! И теперь мне надо садиться рядом с вами, на вашу скамью — пусть и меня комсомольцы судят. Плохо я вас учил…
По залу прокатилась волна шепота: молодежь тронули слова учителя.
Потом заговорила Надя. Начала она тихо, и, наверно, от этого в зале вдруг все умолкли — чувствовалось, с каким волнением произносила она каждую фразу.
— Я ведь, девушки, не чужая вам — своя же, микулинская, и по возрасту почти подруга. Сколько раз танцевали вместе и про суженых толковали, но, видно, уж так принято: хлеб-соль ешь, а правду-матушку режь. Скажите прямо, положа руку на сердце, — что же случилось? В райкоме говорили одно, мечтали о комсомольско-молодежной ферме, а приехали домой — делаете другое. Как же это так? Значит, у вас нет ни характера, ни стойкости. Зачем же надо тогда было брать путевки? Ведь вас никто не заставлял брать их! Не хватило мужества быть откровенными? Знаю, тяжело на ферме, но ведь молодежь всегда на таких участках, где тяжело, и все зависит от вас самих, чтобы сделать и труд и жизнь вашу легче.
Феня внимательно слушала Надю, Наташа же, оглянувшись, перехватила настороженный взгляд матери…
— Кое-кто из вас считает, — продолжала Надя, — что он вроде уже и не человек, раз не прошел по конкурсу в институт. Будете вы учиться, будете! Было бы желание. Вы думаете, у меня не болит сердце о судьбе каждой из вас? Я вот проснулась сегодня ночью, лежу и прикидываю: хорошо бы, кто-нибудь из микулинских стал знаменитым человеком вроде юштинской доярки Прасковьи Николаевны Ковровой. Бронзовый бюст при жизни поставили! Не каждый заслуженный полководец или академик удостаивается такой чести!
Говорила Надя горячо. Казалось, слова ее задели кое-кого из девушек за живое: Аленка, сидевшая на краю скамейки, поднялась и негромко заявила:
— Я согласна пойти на ферму…
Председатель колхоза переглянулся с Ваней Пантюхиным, и у всех, кто находился за столом президиума, появилась улыбка одобрения.
— Ну и Алена!
Как будто светлей и просторней стало в переполненном зале, свободней, легче вздохнулось. А Аленка, окинув синими глазами клуб, тоже улыбнулась и добавила:
— Я согласна, только… учетчицей молока…
По залу прокатился ехидный смешок, но тут нее заглох: встала Наташа.
— А я и учетчицей не пошла бы!
Надя слушала и не верила своим ушам: она была обманута в лучших своих надеждах, а еще горше стало, когда Аким Чернецов, отец Фени, сверкнув из-под косматых бровей неспокойными, диковатыми глазами, заговорил гневно:
— Правильно, Наташка, не для того столько училась, чтобы идти навозом дышать!
Аким с самой весны носил в сердце обиду на Феню за то, что она до сих пор не вернулась домой, и на каждом шагу прямо или косвенно старался высказать свое несогласие с молодыми, оставшимися в селе.
Феня, отвернувшись, посмотрела в сторону Матрены. Она сидела в полутьме, в углу. Хорошо были освещены лишь ее лицо и руки, устало сложенные на коленях.
Читать дальше




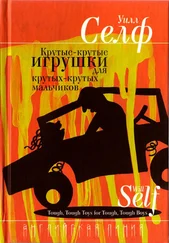

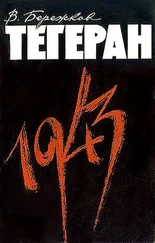


![Андрей Васильев - Золото мертвых [СИ]](/books/395629/andrej-vasilev-zoloto-mertvyh-si-thumb.webp)


