— Ой, да что это вы ночью печь топите?
— Ты не на лепешки смотри, а вот куда. — Матрена взяла со стола телеграмму и подала Фене; та прочла и онемела. Да и как не онеметь: она, Чернецова Ефросинья, едет с делегацией женщин в Кремль.
— Тетя Матрена, что это такое?..
— Как что, яснее ясного сказано: тебя как лучшую телятницу колхоза…
— А почему же Александр Иванович не сказал мне? — перебила ее Феня.
— Телеграмма-то пришла вечером, а вас, чертей, куда-то унесло. Уж тут Егорка ждал-ждал, да так и не дождался тебя, ушел. Пойду, говорит, папаньку обрадую, он давно посылал Феню в Москву, вот теперь она и поедет. — Матрена заглянула в пылающую печь. — Я ему толкую, что едешь ты в Кремль, где правительство, а Егорка знай свое: все равно в Москву! И Ваня Пантюхин прибегал, удивился, что тебя еще нет. Думал, в школе, понесся туда, а потом опять к нам. Вон на комоде фотоаппарат оставил.
— Это еще зачем?
— Говорит, будешь в Кремле, сними все: и Царь-пушку и дворцы… А там, кто знает, может, с правительством придется чашку чая выпить — тоже сфотографируйся.
— Вот ненормальный. Да ведь я не знаю, как и в руки его брать.
Матрена засмеялась.
— А ты попроси, кто умеет.
— А где же Наташа? — поинтересовалась Феня.
— Спит без задних ног, замерзла, тоже пришла с провожатым. О господи, не успеешь оглянуться, как бабкой станешь, — Матрена счастливо улыбнулась.
— А печь зачем топите?
— Как же, тебя собрать надо, в дороге все сгодится. Да и себе кое-что, — смущенно добавила Матрена.
— Значит, и вы?.. — Феня не докончила, бросилась к Матрене, горячо обняла ее. — Вот радость-то! Как я за вас счастлива!.. Уж кто-кто, а вы больше всех заслужили.
Матрена глухим от волнения голосом промолвила:
— Да, Феняшка, выпало счастье… Бабу микулинскую в Кремль зовут.
— Какая же вы баба? Колхозница вы, труженица…
Фене немножко даже обидно стало за Матрену. «Баба!» Да разве не ясно ей, кто она, ведь изо дня в день старалась, работала. Силу-то какую надо, веру какую, чтоб так вот годами… Ведь это же подвиг! Тут не скажешь, в какой час, в какую минуту свершилось все это, не припомнишь, не найдешь этого мига. Вспомнилась Зоя Космодемьянская. Ноябрь 1941 года… Свято, бессмертно. А она, Матрена, — всю жизнь, каждый день незаметно, безмолвно, терпеливо…
Рано утром, когда Феня еще спала, пришла мать.
Феня проснулась от стука в дверь.
— Значит, едешь? — спросила мать, присаживаясь на край постели.
— Еду, — ответила Феня. — Я так рада, мама, так рада! Только не знаю, боязно что-то…
Феня смущенно умолкла, а мать, воспользовавшись паузой, сказала:
— Вот возьми лепешки, чай, не дома будешь. — Потом перевела дыхание и вдруг робко проговорила: — А может, насчет Анны и ее вещей что-нибудь узнаешь, а?
— Что узнавать-то? А про лепешки, мама, зря ты беспокоилась: тетя Матрена все приготовила, куда мне столько.
— Бери, бери, не обижай мать, ее-то лепешки вкуснее, — ласково сказала Матрена.
— Ты бы домой заглянула, Феняшка, — тихо попросила мать. — Егорка с Машей каждый день пристают: «Почему наша Феня живет у Наташки?»
— Если она уйдет от меня, то, наверное, к вашим соседям, — улыбнувшись, проговорила Матрена.
— Как же это так, пусть уж лучше у тебя живет, спокойнее будет мне, — с мольбой в голосе, почти шепотом произнесла мать.
— Да разве их удержишь? Не сама уйдет, так уведут: любовь, чай, сама знаешь, какое дело…
Мать хотела что-то переспросить у Матрены, Но, увидев счастливые, ясные глаза дочери, прошептала:
— Пусть как хочет, как ей лучше…
*
И вот снова Феня идет по улицам Москвы. Падает легкий снежок. Москва!.. Все, как и прежде, торопится, мчится куда-то — стремительно, в безудержном порыве. На лице Фени нет больше растерянности и робости. Взгляд ее ясен и уверенно спокоен. Она идет по знакомым улицам столицы и чувствует всем своим сердцем, что Москва по праву принадлежит ей.




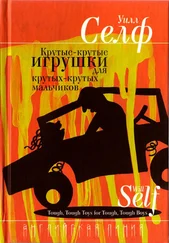

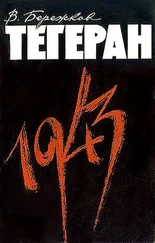


![Андрей Васильев - Золото мертвых [СИ]](/books/395629/andrej-vasilev-zoloto-mertvyh-si-thumb.webp)


