— Спасибо, дорогие, что уважили нас, стариков, но пока мы еще на своей паре можем, так вы уж многие лошадиные силы не гоняйте попусту.
Минуту спустя дед Матвей стоял у окна с Акимом. Взволнованный, по-праздничному одетый Аким, рассматривая зароговевшие от топорища мозоли на ладонях, говорил своему одногодку:
— Ты понимаешь, Мотя, принес вчера почтальон письмо, а в нем пригласительный билет…
— А что понимать-то, ведь и ты вроде ветеран. Поначалу в колхозе крепко работал, это только после войны шлея тебе попала под хвост, кинулся за длинным рублем, стал метаться из стороны в сторону…
— Метаться! Сам-то забыл, что ли, как за счет одних лишь приусадебных участков жили? На трудодень — ни шиша, а ребятишки, как галчата: «Пап, исть!» Две сотки ржи посеешь на огороде, а потом на полу в избе молотишь палкой…
— Про то не вспоминай, Аким, — сурово сдвинул брови дед Матвей. — Сейчас живем по-людски, дай бог каждому, а ты все равно норовишь…
— Норовишь, норовишь. Заладил!
Матвей, видно, не имел особого желания спорить в такую светлую минуту. Вытащил из кармана портсигар с изображением парящей жар-птицы, ловко щелкнул крышкой:
— Угощайся!
Аким бережно взял корявыми пальцами папиросу «Казбек», помял ее, заворчал что-то под нос. Большой злобы в его воркотне уже не чувствовалось. Закуривая, он стал припоминать слова из пригласительного билета:
«Питая к Вам глубочайшее уважение, как к одному из ветеранов колхоза, правление приглашает Вас на чашку чая…»
Кого не тронут такие слова? «А может, по ошибке прислали мне? Ишь Матвей намекает…» И Акиму как-то неловко стало толкаться среди приглашенных — сгорбился, весь ушел в себя, жадно чередуя одну затяжку за другой и кутая лицо непроницаемой завесой дыма.
— Ты чего же, пошли за стол, — кивнул ему дед Матвей.
Аким сел рядом с Иваном Гавриловым, по правую руку приладился Матвей. Девчата стали разливать чай, подкладывать на тарелки пироги и конфеты.
— Родные, дорогие мамаши и папаши! — заговорил Нил Данилыч. — Колхоз от всей души ценит ваши заслуги — правление определило каждому пенсию. Но вы молодцы — не отходите в сторонку! Вот и теперь нам нужен ваш совет, ваш опыт. Сами знаете, в колхоз пришло сейчас много молодежи. Девушки и парни образованные, сильные, рвутся к делу, а опыта им не хватает, вот и нужна ваша помощь, из-за этого вас и собрали посоветоваться, как лучше подсказать молодым, чтобы не задеть их гордые сердца.
— Верно, молодежь наша хорошая, что и говорить, нынче на ней весь колхоз держится, — подтвердил Иван Гаврилов.
— В образовании — сила! — загудел кто-то густым басом. А звонкий тенорок перекрыл гудение:
— Моложе — рублем дороже!
— И вправду, — согласился отец Аленки, чернобородый, крепкий еще на вид мужчина. — Привозим мы вчера на ферму сено, сдали все честь честью, доярки приняли. Трогаемся со двора, ну, а я по привычке, глядя на других, охапочку сенца прихватил, положу, мол, под коленки. Да не тут-то было, Феняшка Чернецова на дыбы: «Верните!» За ней и остальные девки, и моя Аленка тоже подала голос. Я опешил, ну, думаю, подожди ж ты, явишься домой, я те покажу, как отца родного позорить. Ни одна из доярок за нас не заступилась. Приходит домой Аленка, и что же вы думаете, не я ее ругаю, а она меня. Да как насела, такой нагоняй дала старому дураку — до сих пор стыдно. Вот она как мне сказала со слезами на глазах: «Зачем ты, папа, сено брал?» А я ей: «Как зачем?» — «Ведь у нас дома хватит до нового выпаса, только меня позоришь!»
Тут я и вправду задумался. Сена у меня много, еще и останется, а так, по привычке хватаю.
Вот Аленка моя и заплакала, плачет и приговаривает: «Сами хорошей жизни не видели, все только свое да свое, и нам пожить не даете. Не хватает у вас соображения, что мы хотим бороться за звание фермы коммунистического труда, хотим жить по-новому, а тут родной отец позорит».
Так мне ее жалко стало, понял, что молодежь-то нас, старых, к хорошей жизни зовет, ну, взялся я ее успокаивать: «Больше соломинки не возьму». А сам думаю: «Как же завтра, старый пень, девчушкам в их ясные глазенки взгляну? Стыдно!..»
Сегодня утром приезжаю на ферму, сбрасываю сено, подходит ко мне Феняшка и говорит: «У вас рукавицы худые, возьмите мои».
Я не беру, а она свое: возьмите да возьмите, у меня, мол, две пары — вчера новые получила.
Аким сидел, молча слушая отца Аленки. Ему было неприятно и больно. Словно все это произошло не между кем-нибудь, а именно между ним, Акимом, и Фенькой, словно Аленкин отец не о себе рассказывал, а о нем, взял да и без всякой жалости выставил напоказ, обнажил его мысли, его душевную рану.
Читать дальше




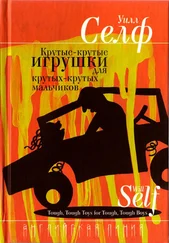

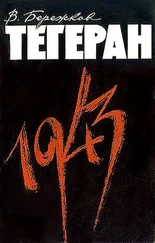


![Андрей Васильев - Золото мертвых [СИ]](/books/395629/andrej-vasilev-zoloto-mertvyh-si-thumb.webp)


