— Ребеночек-то как? — спросила она тихим, бессильным голосом.
— Здоров, ничего себе, горластый он у тебя, — улыбнулся врач. — Спит сейчас.
Матрена лежала и думала: «Вот ведь как случается, жизнь свою чуть не сгубила из-за малого. А почему из-за малого? — вдруг возразила она самой себе. — Может быть, и не мальчишка, откуда знать. Хорошо бы…» Разные думки шли в голову: брошенный дом припомнился. Сожгут теперь немцы. А сундук все-таки зарыт, осенью еще успела зарыть…
Под вечер принесли ребенка, распеленала — девочка! Глазастенькая, бойкая, ножонками так и сучит, ишь теплу-то как рада.
— А мы вашу дочку и помыли, и манной кашей накормили, — сказала санитарка.
Матрена неожиданно ощутила, как на сердце ее нахлынула большая теплая волна. «Дочку!.. Значит, они считают ее моей дочкой. Ну и хорошо!..»
Шли дни за днями. Матрена стала поправляться, сама кормила ребенка, укладывала спать.
За высокой за горой
одит месяц молодой, —
пела она тихим голосом. Пока доктор держал ее на постельном режиме, сшила фланелевый треушок для Наташки (так она назвала девочку в память сестры Натальи, расстрелянной немцами). Проснется ночью и глаз не отведет, не насмотрится никак… Кто знает, может быть, вспоминала Катю, свою погибшую дочку. Сердцем чувствовала, как невыплаканная любовь к ней перекидывается жарким пламенем вот на эту чужую, случайно отбитую у смерти девочку…
— Гулюшки-гули, — радостно пела Матрена, готовая зацеловать синеглазую Наташку. — Несмышленыш ты мой, гулюшки-гули…
Много бед перенесла Матрена за свою бытность в партизанах: и в ледяном болоте тонула, когда уходили от карателей, и под бомбежками случалось лежать, не раз в горящем лесу задыхалась от едкого дыма, но выжила и Наташку спасла, неопалимой вышла из огня.
Когда Смоленщина была, наконец, освобождена, Матрена вернулась в родную деревню, а там ни кола, ни двора, ни притулья — все сожгли фашисты. Откопала Матрена сундук, взяла вещицы да и уехала вместе с Наташей на Оку, к сестре Аннушке. Приехала, а сестры уже нет в живых. Война есть война. Поселилась Матрена в ее доме, стала работать в колхозе, Наташу растить. Звала ее девочка мамкой, радовала Матренино сердце, и никто в большом приокском селе не знал, что девчонка-то у Матрены совсем чужая, да и сама Наташа не знала об этом и считала, что лучше ее мамки нет на свете…
Ну и август в этом году — жара и сухмень! Езда на машине под солнцем, да еще в кузове, совсем разморила Наташу. Вода в бутылке, что была взята из дому, стала теплой, не утоляла жажды. За машиной — столбы огненно-рыжей пыли.
Наконец через час показался город. Вот уже бегут навстречу широкие зеленые улицы, корпуса новых заводов… Наташа сошла с колхозного грузовика возле парка, вынула из кармана зеркальце, глянула в него и ужаснулась: лицо от пыли черное, на потной шее — грязные полоски. «Как же я покажусь в таком виде Борису, да еще во Дворце культуры? — подумала она. — Умыться бы где-нибудь». Наташа стала припоминать, кто из знакомых живет поближе, — ведь многие микулинцы сразу же после войны перебрались в областной центр. Как-то в позапрошлом году приезжала Наташа на смотр самодеятельности, помнится, заходила тогда с девчатами к Фроловым. У них можно привести себя в порядок и на какое-то время оставить вещи.
Город за два года неузнаваемо изменился — стал зеленей, чище, многолюдней, дома — выше и светлей, все больше четырех- да пятиэтажные. И главное — молодежи тьма-тьмущая. «Клара Гусева получила в Скво Вэлли золотую медаль. Чем же я хуже? — думала Наташа. — Не одним молоком можно прославиться. Разве нынче не нужны конькобежцы, балерины, поэты?» Наташа торопилась к центру города. Мелькали улицы, скверы, дома.
…Вот концертный зал. Сколько знаменитостей поднималось по этим ступеням! Мать рассказывала, когда была на совещании доярок, со сцены зала выступали самые что ни на есть известные солисты Большого театра. Значит, и Галина Уланова была здесь! Наташа при одном только воспоминании о балете «Лебединое озеро», который она видела у себя дома по телевизору, сразу как-то преобразилась. И Борис был тут! Наташа представила себе его ловкую, подвижную фигуру, мелькавшую в стремительном пируэте.
Как легко все ему дается! Надо же родиться таким счастливцем — вихрь, перышко!
Где-то рядом с Борисом она мысленно рисует и себя. Они в паре кружатся по сцене, сближаются и вновь расходятся, и опять, влекомые друг к другу, несутся, будто на тугих парящих крыльях…
Читать дальше




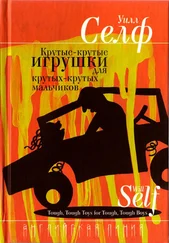

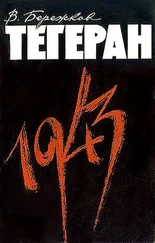


![Андрей Васильев - Золото мертвых [СИ]](/books/395629/andrej-vasilev-zoloto-mertvyh-si-thumb.webp)


