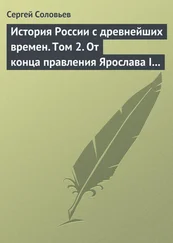Но Вероника, кажется, на это не обратила внимания. Ойкнула, схватила какую-то посудину и выбежала в прихожую.
Повинуясь бессознательной уверенности в том, что спички непременно лежат где-нибудь на видном месте, Крашенков подошел к окну и, действительно, увидел их лежащими тут же, на подоконнике.
Он улыбнулся и покачал головой. Достал из коробка спичку, зажег…
Вошла Вероника, зажмурилась на свет. Но оттого, что он не спешил убрать спичку, а руки у нее были заняты кастрюлей с водой, она не могла прикрыть глаза и нетерпеливо и сердито замотала головой. Это было что-то новое. Такой ее он еще не видел.
Крашенков погасил спичку и заметил:
— В конечном счете руки можно мыть и во тьме кромешной, не правда ли?
Вероника молчала. Она налила в умывальник воду и прошла в глубь кухни.
Крашенков мыл руки. Мыл тщательно, аккуратно, как его когда-то учили. Так же тщательно и аккуратно вытер их полотенцем, которое подала ему Вероника.
— Все! Пошли!
И вздрогнул: он ясно услыхал за окном чьи-то легкие и осторожные шаги.
— Кто там?
— Дэ? — Она резко повернулась к нему, как будто он знал больше, чем лес или ночь.
— Во дворе, — он подскочил к окну и стал всматриваться.
Она стояла сзади и убеждала:
— Та нэмае там никого!.. Мабуть, кинь в стайни!..
Похоже, что и впрямь ему послышалось. Он отчетливо представил себе: конь переходит из одного места конюшни в другое, ступая осторожно и легко. Почти как человек. Если не прислушиваться.
Да, скорее всего, лошадь…
— Никого, — тихо сказала Вероника, и в ее голосе прозвучала нотка облегчения. Странно, очень странно…
Спросил ее:
— Ну что, вернемся к маме?
И та, словно уходя от его взгляда, как-то неуклюже и торопливо сделала шаг назад. Всего один маленький шаг. Но именно в этот момент слабый, почти не существующий ночной луч скользнул по ее лицу, и оно на мгновенье стало загадочно красивым. Крашенков, пораженный чудом превращения, вдруг ощутил невыразимое желание схватить ее на руки и целовать эти черные, сливающиеся с темнотой ночи глаза…
Однако там, в нескольких шагах, лежала больная, дожидавшаяся укола камфары, и ему не оставалось ничего больше, как последовать за Вероникой.
14
Всего один не обязательный укол камфары, и они уже опять смотрели на него как на спасителя. Больная то и дело повторяла, что ей стало как будто легче. Старик мучился из-за того, что пан лекарь снова отказался от гонорара в виде трех десятков яиц и куска ветчины. Что-что, а это никак не укладывалось в голове отставного польского улана. А Вероника сидела рядом с матерью и гладила ее сухую и тонкую руку.
Крашенков не торопился уходить. Он даже не заикался об этом, хотя ни на минуту не забывал о том, что рано или поздно придется возвращаться. Один аллах знает, что ему сегодня еще предстоит…
— Як пане ликар видносытся к тому, щоб повечеряты з намы? — как всегда почтительно, заглядывая в глаза, спросил старик.
— Положительно, — ответил Крашенков.
— Про́шу? — не понял старик.
— Добре отношусь!
— Вероника, накрывай на стол!
Вероника вскочила, побежала на кухню. Хлопотали все. Даже больная. Подсказывала: принести это, принести то…
Лицо Вероники раскраснелось. Она старалась вовсю, хотя взглянула на него всего два или три раза.
Интересно, ради кого она так старается — ради пана лекаря или ради Сережи Крашенкова? Странная она какая-то, очень странная.
— Ласково просимо до столу! — обратился к нему старик.
Угощение было почти как в добрые старые времена. Тут и вареная курица, и сало, и соленые огурцы, и крутые яйца, и мед в сотах. И, конечно же, бутылка первача. Глаза у Крашенкова разбегались.
Старик встал, в руке у него был граненый стакан, до края наполненный самогоном.
— Выпьем за пана ликаря! За його здоровя и щастя! Щоб з ным прыйшлы радисть и краще життя в нашу хату!
— Вот за последнее я выпью с удовольствием! — воскликнул Крашенков и весело чокнулся с Вероникой и стариком.
— А больной почему не дали? — спросил он. Старик и Вероника растерянно смотрели на него.
— А мы думалы, що ий не треба пыты, — извиняющимся тоном сказал старик.
— Пить нельзя, а пригубить можно. Приложиться и сделать маленький, маленький глоток.
Хозяйке налили горилки, и она, довольная тем, что ее не забыли, чокнулась с каждым. Крашенков подумал, что, может быть, впервые за долгие месяцы болезни у нее поднялось настроение.
А потом они пили в основном вдвоем со стариком. Бывший польский солдат говорил заплетающимся языком, что таких хороших и простых офицеров, как в Советском Союзе, нет на всем свете. «А польски офицеры булы дуже гордые и важные. Кожный як круль!» И он с фасоном прошелся по комнате, подкручивая воображаемые усы.
Читать дальше