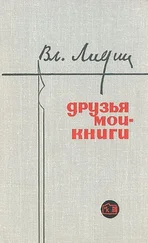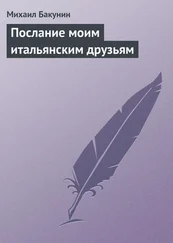— Слышал.
— У нас в Ленинакане, — его исхудалое лицо засветилось, — я прошел бы сквозь щель, где и мышь не пролезла бы, а тут — Могилев, одно слово — могилевский… — Он сопровождал свои слова резкой и выразительной жестикуляцией.
К нам приблизился человек в длинной, кавалерийской шинели с повязкой Красного Креста на рукаве. На нем не было фуражки, и я разглядел на лбу глубокий рубец, след недавней, еще не совсем зажившей раны. Его лицо с тонкими чертами было спокойным, а в движениях чувствовались скрытая сила и ловкость.
Он присел на койку к моему соседу, они обменялись крепким рукопожатием. При этом, заметил я, пришедший передал ему одну или две вареные картофелины. Они о чем-то тихо поговорили между собой, потом «кавалерист» обратился ко мне:
— Я старший санитар палаты. Расскажи, откуда ты, как ты попал в плен?
Карандаша и бумаги у него нет, строгий и прямой взгляд внушает доверие. Ленинаканский товарищ — он мне с первой минуты понравился — закивал головой: не бойся, мол, ему можешь все рассказать.
И все же я медлил.
— Ты москвич? — начал старший санитар.
— Да, — подтвердил я, — работал мастером на заводе.
— На каком? — заинтересовался он.
На мгновение я задумался — сказать или не сказать? Глупости, решил я, не нужно быть слишком подозрительным.
— На оборонном.
Он засыпал меня вопросами — и вдруг неожиданно, в упор:
— Сколько раз ты пытался бежать?
— Один.
По фашистским законам этого ответа достаточно, чтобы расстрелять меня. Но в его голосе я уловил скрытое одобрение, когда он произнес:
— Один раз — мало…
Он направился к столику возле печурки, вынул из ящика картонную коробку и вернулся к нам. Коробка, полная бумажных карточек, напоминала библиотечную картотеку и была поделена фанерной дощечкой на две неравные части. Из меньшего отделения он вынул карточку моего соседа слева, который несколько минут назад скончался, в левом ее углу, где обычно кладут резолюцию, крупными буквами написал «от дистрофии» и переложил карточку в большое отделение.
Теперь он должен завести новую карточку, на меня. Нужно ответить всего лишь на два вопроса: фамилия, имя, отчество и прежний домашний адрес. Сколько я ни готовился к этому опросу, все-таки, когда дело дошло до отчества, запнулся. Его карандаш готов написать любое, какое ни назову, а я молчу. В мозгу бессильно билось: «Имя отца измени». Мне об этом не раз напоминал Пименов — Федор Андреевич…
— Как же твое отчество? — спросил старший санитар, пытливо глядя мне в глаза.
— Андреевич.
— Таких вещей, — проговорил он строго, — никогда не следует забывать. Ясно? Вот так! Меня зовут Глеб Иванович Чернов.
Он обернулся к младшему санитару и крикнул:
— Кузьма, эту койку займет новенький, ясно? Вот так!
Кузьма не ответил, он все еще злился — сэкономить пайку хлеба так и не удалось.
Мне хотелось знать, чем Глеб занимался до войны, — на кадрового командира он не похож ни походкой, ни выправкой. Чем-то он напоминал педагога, но спрашивать не хотелось. Жизнь в плену установила свои, железные законы, неписаные заповеди. Одна из них гласила: «Не спрашивай!»
Только на третий или четвертый день Глеб повел меня в перевязочный кабинет. Мы прошли по длинному коридору — это здание, видимо, было прежде учебным корпусом, и двери с обеих сторон вели в классы.
Меня положили на два сдвинутых канцелярских стола. За стеклом книжного шкафа виднелась белая металлическая ванночка, а в ней два пинцета, скальпель, ножницы. Рядом — две высокие банки, в одной из них с надписью «горный дубняк» — темная густая жидкость, которой здесь лечили больных дизентерией; в другой — светло-зеленая жидкость, горьковато пахнущая хвоей, средство от цинги.
В лазарете, где лежало столько больных и раненых, не было больше никаких инструментов, никаких медикаментов, и высококвалифицированные советские врачи, сами находившиеся на пороге смерти, были бессильны спасти человеческую жизнь.
Вошел человек в белом халате — врач. Белые халаты здесь носят только врачи.
— Ну, как дела, больной?
С таким вопросом, очевидно, обращаются к своим пациентам врачи всего мира. Но здесь, в лагере, где все делается для того, чтобы уничтожить как можно больше людей, от этих слов на меня пахнуло неожиданным теплом. Я поднял глаза. Возле меня стоял седоволосый, но еще крепкий человек, на лице серая тень усталости и озабоченности, голос тихий, мягкий. Выслушав несколько слов, сказанных Глебом вполголоса, он обратился ко мне:
Читать дальше