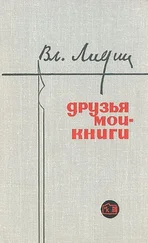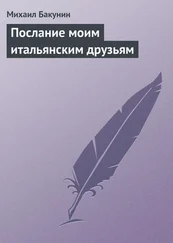По вечерам в палате свет не зажигают. Лежат впотьмах и толкуют о том о сем. Сосед Жака по койке, Дима, бывший кавалерист, потерявший в бою обе руки, так молод, что губы у него еще по-детски пухлы. Дима вздыхает и проникновенно затягивает:
Жена найдет себе другого,
А мать сыночка — никогда.
— Дима, — прерывает его Жак, — спой что-нибудь повеселее. Давай любимую — «Красную кавалерию».
Диму долго упрашивать не приходится. Тем более, что песня, которую он собирается спеть, всем по душе.
Звонкому голосу Димы тесно в стенах палаты:
Мы — красные кавалеристы
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ.
И хотя нога у Жака нестерпимо ноет, он, пересиливая боль, вместе со всеми подхватывает слова:
Мы — беззаветные герои все,
И вся-то наша жизнь есть борьба!
В палате воцаряется тишина. У порога, возле печки, выложенной голландским кафелем, застыла медицинская сестра, и ей кажется, что песня все еще звучит, не умолкая.
Жака из лазарета так скоро не выписали бы, но из Херсона сообщили, что мать его тяжело больна, ждет не дождется, когда он приедет хоть на один день.
Пассажиры хлынули по перрону к выходу на привокзальную площадь. Стоявший у своей брички возле Херсонского вокзала извозчик с прокуренными рыжеватыми усами держал в руках кусок макухи, то и дело вгрызаясь в нее зубами. Лошадь, ребра которой нетрудно было пересчитать, посмотрела на хозяина голодными глазами и так глубоко вздохнула, что из ее ноздрей повалил густой пар. Жака так и подмывало сказать извозчику: «Будь человеком, отломи хоть кусочек животному». На вопрос Жака, отвезет ли он его на Дворянскую, извозчик даже не ответил. Его взгляд в это время был прикован к вещевому мешку, висевшему у Жака за спиной. Раза два он повел носом, будто хотел по запаху установить, что в нем. Жак потянул его за рукав:
— Я ведь не невеста, а вы не жених, что ж вы меня так разглядываете? Возьмите-ка вожжи в руки и айда, поехали.
Извозчик подтянул чересседельник, поправил хомут и забрался на свое место. Сел в бричку и Жак, но извозчик все еще не собирался двигаться в путь. Он повернулся к седоку и предупредил его:
— За деньги я пассажиров не вожу.
— За что же?
— За что угодно. Овса для моей кобылы, надо полагать, у вас не найдется. А вот если дадите мне хлеба, я скажу вам спасибо. Вы к кому приехали?
Жак извлек из вещевого мешка буханку хлеба, разрезал ее на две равные части и одну протянул извозчику.
— Еду к матери. Знаете Басшеву, что живет в доме мадам Олиновой?
— А как же? Тиха, как голубь, но, горемыка, угасает. Глаза у нее запали, все плачет да вздыхает. На, забери свой хлеб. Возьми, тебе говорят, а мне лучше оставь «бычок» на затяжку. Ты, наверно, тот самый, что выступал в цирке? Кто же это тебя так изуродовал? Да что спрашивать. Мои сыновья вовсе с войны не вернулись. Но! Н-но, холера! Ползет, как черепаха. Бери, солдат, вожжи в руки, а я тем временем побегу и обрадую твою мать. Дай хоть богоугодное дело сделаю.
Как ни погонял Жак кобылу, извозчик все же его обогнал.
Со щемящим сердцем застыл Жак на пороге с костылями под мышками. Лицо у мамы как бы в каменных складках. Белки глаз в красных прожилках. Он только и мог произнести:
— Мама!
На лице Басшевы появилось подобие улыбки. Слабым прерывающимся голосом она проговорила:
— Слава богу, сынок, дождалась тебя.
— Мама!
В последние дни у нее совсем ослабло зрение, и все вокруг виделось ей, как в тумане.
— Не пугайся, Довидл, — погладила она его исхудавшими непослушными пальцами. — Поставь костыли в сторонку и сядь рядом со мной. Отец, царство ему небесное, до последней минуты все тебя вспоминал. Мне больше его повезло. — Она перевела дух и обратилась к домашним: — Дети, Довидл ведь с дороги, соберите ему что-нибудь поесть.
Она, должно быть, еще что-то хотела сказать, но не смогла, не хватало дыхания, и ее сухие губы только беззвучно шевелились…
…Через несколько дней Басшеву похоронили.
В отчем доме Жак задержался еще на неделю. Отсидели траурную седмицу. Накануне отъезда ему снова захотелось увидеть и услышать, как вместе с зарей зарождается и набирает силу новый день. Когда рассвет притушил звезды, он подошел к окну и долго вглядывался в смутные очертания двора, как бы укутанного лунным саваном. Нет больше отца и матери, Хаим-Бера, соседки Рохеле, собачонки Фуги, но по-прежнему поет голосистый петух, возвещая наступление дня.
Читать дальше