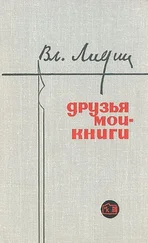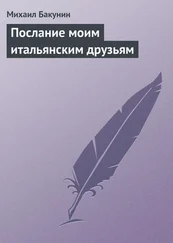Глаза у Жака все еще закрыты, и он отталкивает от себя чью-то руку.
— Давидко, циркач, туды-перетуды! Ты что, не узнаешь меня?
Жак рванулся с места. Если бы в окно влетела шаровая молния, он не вздрогнул бы так, как от этих неожиданных слов.
— Дядя Никифор, вы?!
— А ты думал, что это тебе снится?
Стоявший чуть поодаль Евгений Павлович, улыбаясь, заметил:
— Вот тебе и человек с улицы.
Никифор обхватил Жака правой рукой и долго не отпускал от себя.
— Ты уж молчи, — сказал он, обращаясь к Сенину. В его глазах светилась радость. — Эполеты ты мог бы выбросить в мусорный ящик, а парня надо было прежде всего накормить.
— Ты прав, Никифор. Пошли все ко мне. Что-нибудь придумаем…
И вот они сидят на широком диване, и Жаку не верится, что встреча эта не сон, а явь. Никифор приехал сюда всего на несколько дней, чтобы сформировать команду бронепоезда. Был он в Херсоне, и ему известно, что отец Давидки, Носн-Эля, умер. Никифор на минутку задумался, что-то вспоминая, и спросил:
— Ты небось думаешь, что, когда я поступил к твоему отцу в ученики, это было мое первое знакомство с ним? Нет, Давидко. Мы с ним познакомились гораздо раньше. Я тогда еще был парубком. Все это давно быльем поросло. Однажды на рассвете иду я, в руках у меня ящик, доверху набитый листовками. Только успел приклеить к стене первую, нагоняет меня человек и шепчет: «За вами следят. Меня зовут Гольдфарб. Я токарь, работаю недалеко отсюда в мастерских. Когда свернем за угол, давайте обменяемся ящиками». Так и сделали. Как только я дошел до перекрестка, меня задержали и отвели в полицейский участок. Шедший за мной следом шпик злорадствовал, потирая руки от удовольствия. «Сколько их у него, этих листовок, — сказать не могу, но я своими глазами видел, как он поставил в ящик банку клея и кисть». Жандарм уже приготовил бумагу для протокола. «А ну, открой-ка ящик и покажи свой товар», — приказал он мне. А я себе стою как ни в чем не бывало. «Если вам нужно, говорю, сами открывайте. Я и без того знаю, что в нем». Долго возились они с замком, покуда его взломали. Что было в ящике — я никогда не забуду. Какие-то инструменты, два ломтя хлеба и между ними кусок селедки, луковица, и в спичечной коробке — немного соли.
Жандарм до того рассвирепел, что его чуть удар не хватил, а глаза, и без того красные, еще пуще налились кровью. Он с такой силой саданул сапогом по ящику, что все имущество твоего отца разлетелось в стороны.
Вечером я пошел искать своего спасителя, но его и след простыл. Тогда я разыскал одного нашего товарища, который работал в тех же мастерских, что и твой отец.
«На Гольдфарба, токаря, положиться можно?» — спрашиваю я у него.
«Положиться-то, пожалуй, можно, но, кроме своей работы, он ничего знать не хочет. На риск никогда не пойдет».
«Вот на этот счет ты как раз и ошибаешься, — говорю я своему товарищу. — Еще как может рисковать! И не только прийти на помощь другу, но и протянуть руку попавшему в беду незнакомому, постороннему человеку. Просто он, очевидно, не только смел, но и благоразумен».
Я попросил своего товарища вызвать под каким-нибудь предлогом Носн-Элю из дома.
«Видите, — говорю твоему отцу, — жандарм сломал замок на вашем ящике».
«Ничего, — отвечает он, — это для меня пустяк».
Жак слушал, и ему казалось, что он в эту минуту видит своего отца, но не таким, каким запомнил, — вечно усталым, хмурым, обремененным повседневными заботами, а совсем другим…
И еще одну весть передал ему Никифор: старший брат Жака, Лейви, попал в плен и сейчас в Австрии, а Мотл, который мог целыми днями корпеть над священными книгами, вернулся с фронта большевиком.
С того дня Жак больше не разлучался с Никифором. Служили они оба на бронепоезде «Грозный»: Никифор — командиром, Жак — разведчиком.
Солнце припекало вовсю. На небе ни облачка. В колосившейся, но еще неспелой пшенице, близ станции Чирская, лежал Жак, и острая боль пронизывала все его тело.
До Жака доносились приглушенный и все отдаляющийся гул артиллерийских залпов, разрывы снарядов, выпущенных «Грозным». Вырвавшись из белогвардейских клещей, бронепоезд устремился к Царицыну. Жак все это знал, тем не менее беспрестанно облизывал запекшиеся губы, бормотал: «Никифор, Никифор…»
И, как бы услышав приказ своего командира, он из последних сил приподнялся, опираясь на локоть, достал из кармана ножик, разрезал голенище сапога и, туго перевязав рану, попытался встать, но заскрежетал зубами от боли. Сознание помутилось. Что было дальше — помнит как во сне, ему чудилось, будто бредет он по первому тонкому льду, которым покрылся Днепр, проваливается и идет ко дну. Он пытается за что-то ухватиться, но тут острая боль приводит его в чувство. Теплый ветер доносит звуки гармошки и горьковатый запах дыма. Пламени он не видит, но, должно быть, где-то горит хата.
Читать дальше