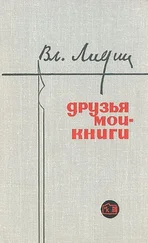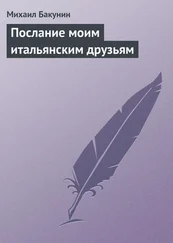Из кувшина, который Довидл прихватил с собой, он набирает полную пригоршню воды и ополаскивает разгоряченное лицо, картуз с поломанным картонным козырьком надвигает на лоб пониже и, хотя уже изрядно устал, начинает все сначала. Он не из тех, кто отступает от задуманного.
— Ты что там, Довидл, делаешь?
Вот тебе на! Угораздило же маму ни с того ни с сего выглянуть в окошко.
— Я? — отвернул он покрытое испариной лицо. — Ничего.
— Смотри, чтоб не расшибся.
И в самом деле: спина уже изрядно ноет, голова закружилась, а в ушах стоит звон, будто в них мухи жужжат. Но маме зачем об этом знать? Может, не следовало Элика бить? Ведь только что и сам солгал. Правда, это не одно и то же. Как только его возьмут в цирк, он об этом первой скажет маме. А теперь будет лучше, если «манеж» он устроит подальше от окна.
Просторная базарная площадь до отказа набита людьми, повозками, товарами. Слепой нищий с сумой надрывным голосом просит подаяния. Мороженщик с грохотом катит свою тележку. Гончары выбивают дробь на кувшинах. Шум, гам, гудит, как в улье.
Довидлу к шуму не привыкать. Не раз бывало, когда голод очень уж донимал, он за кусок хлеба или несколько грошей танцевал здесь до упаду. Особенно он терпеть не может хлеботорговцев и барышников. Среди них даже Элик сошел бы за святого; привыкли торговаться за каждый грош и обманывать на сотню. Один другого грабит среди бела дня, а ты попробуй схватить у торговки червивое яблочко, такой поднимут гвалт!
От этих горластых торгашей, которым ничего не стоит не только облапошить, но и дочиста обобрать порядочного человека, лучше держаться подальше. Довидл окидывает их презрительным взглядом, сплевывает сквозь зубы и проходит мимо. Вот здесь, у дороги, ведущей к старинной военной крепости и к цирку, он покажет, на что способен.
В эти минуты для него ничего не существовало. Вдруг раздался свист. Стоя на руках, Довидл от неожиданности покачнулся, но равновесие не потерял. Восемнадцать шагов он проделал и, хоть болят разодранные в кровь руки, готов проделать еще столько же. Мышцы стали упругими. Кто это свистит? Ему видны только белые туфельки на высоких каблуках у края дороги. И пусть себе стоят. А он тем временем оторвет правую руку от земли и без труда вытянет ее вперед. Повернул голову в сторону — вот те на! Откуда ни возьмись — два здоровенных юфтевых сапога. Такому сапожищу размахнуться, и ты не только на руках, но и на ногах не устоишь. Но испугался он зря. Это вовсе не городовой. Иной раз глянешь человеку в лицо и сразу же скажешь, кто он. А тут, когда стоишь на голове, видишь одни лишь ноги… Оказывается, это свистел высокого роста курносый солдат в выцветшей гимнастерке.
— Э, да ты посмотри, — указывает солдат на пыльную землю со следами крови, — а ну-ка, дай сюда руки. — При этом так жалостливо смотрит своими теплыми серо-голубыми глазами, что кажется, вот-вот подует на раны и, как мама, бывало, скажет: «Все, Довидл, была вава — и нету». Дед же говорил, что раны надо присыпать прогретой на солнце пылью, и все заживет.
— Что, браток, больно? — участливо спросил солдат.
— Ничего!
— А звать-то тебя как?
— Довидл.
— Давидко, значит. А моего пацана звать Сашко. Он в деревне. Далеко отсюда.
— Отчего же, дядя, и вам туда не поехать?
— Отчего, говоришь? Наше дело такое, — вздохнул солдат, и глаза его погрустнели. — Видишь полоску на погоне? Это означает, что отбарабанил у царя-батюшки солдатом целых три года и дальше придется служить. Куда мне ехать? На клочке земли, попросту говоря, величиной с гулькин нос, так что тебе ничего не стоит пройтись по ней на руках, нас четверо братьев. Куда же, по-твоему, мне ехать?
— Мой отец тоже был солдатом. Я еще до сих пор укрываюсь его шинелью. Подвал у нас сырой, а шинель хоть немного, да греет.
— Выходит, Давидко, и тебе невесело живется. Должно быть, весь мир стоит на голове. А твой отец где работает?
— В мастерской. Он токарь. Видите эту коробочку? Это он сделал.
— Ишь ты! Хорошая вещица! Видно, мастер — дай бог каждому.
Солдат посмотрел в сторону заходящего солнца, окаймленного радужной полосой, развел руками, словно хотел его обнять, и широким шагом направился по дороге к казармам.
В цирке все знали: если билеты в кассе плохо расходятся, хозяину на глаза не попадайся.
Сегодня пришлось даже отменить вечернее представление: не сбор, а кошачьи слезы. Вяльшин забрался в конюшню, присел на край перевернутой пустой коробки и, подперев голову обеими руками, смотрел перед собой каким-то отрешенным взглядом. Вид у него был жалкий, удрученный. Когда примадонна Антуанетта Кис, заглянув, поздоровалась с ним, он даже не удостоил ее ответом. Тем не менее она с ним заговорила:
Читать дальше