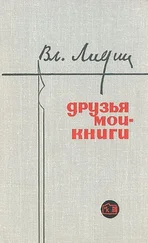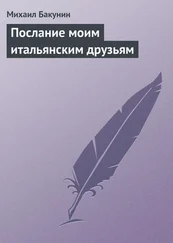Одного не мог понять Довидл: «А как же по субботам? Ведь в субботу Хаим-Беру не приходится запрягать кобылу и, значит, незачем ему зычным голосом, как из иерихонской трубы, поднимать на ноги весь мир криком: «Сколько можно дрыхнуть!» Но спросить об этом у извозчика, взвалившего на свои плечи столь тяжкую вселенскую ношу, так что даже спина его порядком сгорбилась, Довидл не осмеливался.
Со временем загадка сама по себе разрешилась: оттого так необычен этот день субботний, что все встают, кто когда хочет, на работу не ходят — бьют баклуши. Даже его мама, вечно занятая по горло, в субботу не кипятит чай в чугунке, не чинит свой траченный молью плюшевый жакет, не латает наволочки, чтобы скрыть от людских глаз их убогий вид, а сидит с соседкой Рохеле на завалинке, и обе, как заведенные, лузгают жареные тыквенные семечки, сплевывая под ноги белую шелуху.
Когда Хаим-Бер на рассвете будил весь мир, Довидл и слышал и не слышал: утренний сон слаще меда. В это время он лежал, свернувшись калачиком, прижимая коленки к животу, втягивал голову в плечи и плотней закутывался в старую отцовскую шинель, у которой, помимо длинного разреза сзади, было еще с добрый десяток большущих дыр.
Все это происходило вовсе не потому, что Довидлу было жаль расставаться со сном. Он не хотел, чтобы власть Хаим-Бера, которому все беспрекословно повиновались, распространялась и на него. Не зря же Лейви, брат Довидла, когда, бывало, разозлится, дразнил его «строптивцем», «мальчиком-наоборот».
Лейви хочется, чтобы все в доме вставали в одно время с ним. Этой каланче (так его окрестила соседка Рохеле) невдомек, какая кутерьма поднимется, если в двух небольших комнатушках их подвала, где с непривычки шагу не сделать, не зацепившись обо что-то, одновременно встанут с постелей папа, мама и двенадцать детей… От этой мысли у Довидла, хотя он еще не совсем проснулся, пухлые губы невольно складываются в ухмылку: все пошло бы кувырком. Того и гляди — лампа под потолком начнет ходить ходуном.
Чтобы этого не произошло, было заведено раз и навсегда: «Сколько можно дрыхнуть!» касается одной только мамы. И лишь после того, как готов завтрак — пшенная каша сварилась, чай вскипел, — она подходит к кровати отца и шепотом, чтобы никто не услышал, будит его:
— Носн-Эля…
Произносится это так, будто она не совсем уверена, что на этой расшатанной, скрипучей деревянной кровати спит ее муж, а не какой-нибудь знатный гость, чье имя произносить вслух она еле решается.
Спит отец крепко, так что разбудить его непросто, но на голос матери сразу же отзывается. Приподнимаясь на перине, он слегка проводит ладонью по бородке и почтительно, словно он здесь в самом деле гость, произносит:
— Доброе утро, Басшева!
Мать в ответ кивает головой, идет на кухню и приносит большую медную кружку с водой для умывания. Затем берет два ломтя ржаного хлеба и кладет между ними кусок селедки, луковицу, иногда кусок вареного мяса, чтобы дать отцу с собой на работу. В пустой спичечный коробок она проворно, но без суеты, всыпает немного, с наперсток, соли и перевязывает его ниткой.
Мать силится вспомнить, что́ бы еще дать отцу с собой, но в это время он ее окликает:
— Басшева, куда подевался со стола острый нож?
— Вот он! — Мать поправляет клеенку и снова уходит на кухню за стаканом «кофе» — напитком из жареных желудей.
— Садись со мной завтракать.
— Я уже сыта, — улыбается она своими не потерявшими еще блеска черными глазами и при этом двумя пальцами вытирает уголки губ.
Отец с досадой замечает:
— Сколько я тебя помню, ты вечно сыта. Скажи, пожалуйста, ты случайно не манной небесной питаешься?
— Не говори, Носн-Эля, глупостей. Ем, а что же я делаю? — Она горестно вздыхает и качает головой. — Вас, слава богу, тринадцать, так что ж, садиться мне с каждым из вас за стол?
Сказала и сама не рада. Она ведь знает: стоит ей назвать число тринадцать, как у отца кусок застревает в горле. Хотя в чем, собственно, его вина? Руки у него золотые, сноровистые, трудится он с рассвета дотемна, все делает на совесть, ну, а что на жизнь не хватает? Ведь немало людей еще и не так бедствуют… Да, вспомнила, надо дать ему с собой несколько ложечек соды: его, беднягу, постоянно донимает изжога, а к фельдшеру Гинзбургу обращаться он не хочет. Это только так говорится: «не хочет». Нет трех пятиалтынных, чтобы заплатить за визит. Правда, Гинзбург из тех лекарей, что может прийти к больному и, если это бедняк, не только отказаться от платы, но и оставить свои деньги на лекарства. Но ее Носн-Эля ни за что на это не согласится, к чему тогда все эти разговоры?
Читать дальше