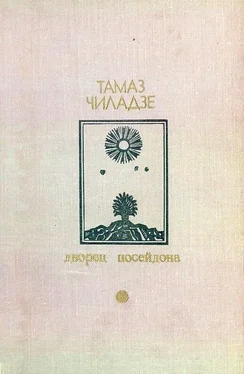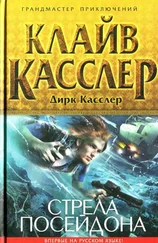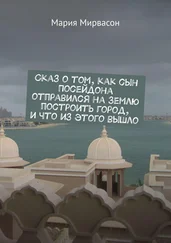Она замолчала и вдруг вспомнила те слова, что кричал ей вслед Спиноза. Теперь она слышала их очень ясно: «Я убью Беко, — кричал он, — отомщу за твои слезы!» Зина улыбнулась.
Нико удивленно смотрел на нее: по правилам, монолог Зины кончался не здесь. Так же, как и Зина, ом давно знал его наизусть, хотя ни один из них до сих пор не произносил этих слов вслух. Но в мыслях, когда он представлял себе этот день, невестка говорила именно так.
Зина нахмурилась и продолжала:
— Очень часто мы сами связываем себя по рукам и ногам и живем только напоказ. Как поживаете? Хорошо, очень хорошо! А на самом деле — задыхаемся! Я смотрю в зеркало и вижу совсем другую женщину, словно загримированная актриса. Эта минутная иллюзия порой оказывается сильнее правды, но в конце концов — это иллюзия, и ничего больше! А я хочу, пока жива, еще хотя бы раз увидеть свое настоящее лицо.
Нико молчал и стоял как вкопанный. Он и тогда не проронил ни слова, когда Духу привез ребенка, и когда они уже собрались уезжать и Датуна подошел прощаться. Он вызвал по телефону такси, проводил их до машины и, пока машина не тронулась, прижимал к груди детскую ручонку.
— Зачем мне это ружье, зачем я его взял, для чего? Ну-ка вспомним! Ну-ка хорошенько подумаем… Нет, не помню! — говорил Спиноза, вышагивая посреди улицы.
Затылок у него горел, он то и дело проводил по нему рукой, как будто его ударили чем-то тяжелым. «Что я такого сделал? — думал он. — Чем не угодил?»
— Ничего не сделал, — пропел он, прислушиваясь к своему голосу. Удивился: голос раздавался издалека, как будто пел кто-то другой, невидимый.
— Ничего! — повторил он и, прикусив язык, огляделся: никого.
— Так мне и надо, — сказал он, но тотчас крикнул: — Почему, люди, за что?
Он был убежден, что с ним обошлись несправедливо, отвергли, отшвырнули. За что? Только за то, что взлелеянную украдкой любовь, — это слово исторгало слезы из его глаз, — как младенца, положил на колени женщине, которую почитал за ангела, — она и есть ангел! Даже буйвол мычанием выражает свою сокровенную боль, и что плохого в том, если он не удержался? А этот ангел так завизжал, будто мышь увидел. Спиноза ведь ни о чем не просил (он сам уже называл себя Спинозой, считая, что для этой жизни, к которой он уже готов, старое имя «Бондо» не подойдет), сказал только: казни или помилуй! Эти слова не раз он кричал в стену, но стена — одно, а женщина, которой предназначались эти слова, пусть даже более глухая, чем стена, — совсем другое. Наверно, он не сумел ей объяснить, чего хотел. Какой срам! Может, она совсем другое подумала, а Спиноза просил у нее только разрешения, права на жизнь. Если бы она сказала, что выслушала его и поняла, он был бы вполне удовлетворен. Он бы отвел женщине место рядом с безродным младенцем в уголке своего сердца, прекрасном, как райские кущи. Младенец этот ни молока не просит, ни колыбельной, будет спокоен и счастлив.
И Спиноза успокоится, переведет дух, никуда отсюда не уедет.
«Зачем мне эго ружье? Для чего я его взял?»
Нет, Спиноза человека убить не может. Он еще не сошел с ума, как это воображают некоторые…
«Да, но ружье… зачем мне ружье?»
Он заметил еще одно странное обстоятельство: он все видел яснее и четче, чем раньше, чем несколько минут назад. Так ясно, что глазам было больно. Предметы, например, передвигались. Дерево несколько раз перебегало ему дорогу, прежде чем вернуться на свое место. Ему хотелось схватить кого-нибудь за руку и сказать: смотри! Смотри, что делается! Но он не смел. Ему казалось, что он никого в этом городе не знает. И слух обострился до предела. Он слышал, как гудят провода, как журчит вода в канаве — не здесь, а далеко, в самом центре города, как потрескивает огонь на кухне ресторана, как поскрипывает перо писателя по бумаге. Все это он слышал так явственно, что даже видел: змеей извивающееся тело электричества, мутную, подернутую ряской воду, яростные языки пламени, выпачканные чернилами пальцы и еще много чего, что скрывалось от его глаз и было доступно лишь слуху. Он видел их вместе, одновременно, бесчисленные предметы и людей, перемешанных, растворенных друг в друге, но в то же время сохраняющих свою слепящую обособленность.
Спиноза побежал и бежал долго, пока не свалился на поляне, у края леса, под сосной, зажмурив глаза и заткнув пальцами уши. Так он лежал, пока в нем не установилась абсолютная тишина. Тишина эта походила на сон, если только можно спать с бодрствующим сознанием, все время помнить, что спишь. Тишина стояла в его теле, как вода в колодце.
Читать дальше