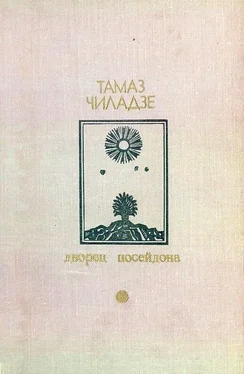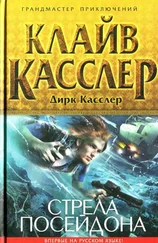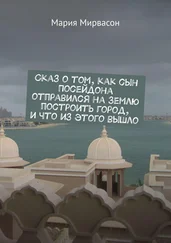— Почему именно эти три?
— Разве не все поступают так?
— Это проще всего.
— А что же трудно?
— Меч Спартака, крылья Икара, фонарь Диогена.
Писатель стоял у бассейна и глядел на ребят: «Они как ангелы Рафаэля…»
— Так что дальше? — спросил Ираклий.
— Вылезайте, простудитесь, — сказал писатель.
— Не простудятся, они одеты, — пробурчал Спиноза.
— Как? Купаются в одежде? — удивился писатель.
— Я же говорю — хулиганы!
— Отвечайте же, маэстро! — не отступал Ираклий.
— Что дальше? — писатель развел руками. — Что я могу ответить?
Когда писатель остался со Спинозой наедине, он сказал:
— Как выросли дети!
— Надо было милицию вызвать, — Спиноза разрядил ружье.
— Эх, Бондо, — вздохнул писатель и, помолчав, спросил: — Водки у нас не найдется?
— Водки? — опешил Спиноза. — Нет. Да, но зачем вам водка?
— Ладно, ладно…
Писатель долго сидел на веранде и смотрел на море, скрытое мглой. Что-то тревожило его, что-то незнакомое и непривычное царапиной прошлось по сердцу. Это была скорее печаль, чем горечь, которая, словно дым, просачивалась сквозь царапину и наполняла сердце. Нет, разговор с ребятами его не огорчил, напротив, развлек. Он даже был доволен собой, что не погнал их со двора, как сварливый сторож. Правда, они напомнили ему о собственном одиночестве, которое он уже много лет скрывал от самого себя. «Сижу здесь, как филин в дупле…» Эта мысль встревожила его. «И… ничего не вижу…»
Как же не видит! Возбужденный постоянной деятельностью мозг заполнял листы бумаги бесчисленными людьми. Как куклы на полках, в его романах стояли рядом цари, придворные, слуги, воины, стражники, гадалки, клоуны, чревовещатели, монашки, монахи, священники, епископы… В его книгах, словно море после геологических катаклизмов, меняли свои границы и сталкивались друг с другом государства. В мрачных коридорах дворца сверкали отравленные клинки и склянки с ядом. Раздавался предсмертный хрип умирающего короля, конское ржание, брань конюхов и глухие стоны охваченных страстью царевен.
Нет, он видел все, видел так зорко, что уже не знал, куда прятать письма благодарных читателей. Только вот себя он не сумел разглядеть, забыл себя, затерялся среди пращей и бомбард, сундуков с сокровищами, конских яслей, полных ячменя, исчез в пыли, поднимаемой копытами закованных в броню лошадей, в шелесте знамен, в трюмах кораблей, везущих рабов, в дыму сторожевых башен, в дремучей бороде привязанного к столбу еретика.
И вдруг ему привиделось нечто удивительное:
По мозаичному полу тронного зала прошмыгнул, как мышонок, маленький, голенький мальчик. Он обшарил все утлы и присел у подножия трона, откуда-то выудил пыльную заросшую паутиной бутылку с ядом, которая так же была необходима царю, как желудочному больному — минеральная вода. Мальчику хотелось пить, и он вытащил из бутылки пробку.
— Нет! — крикнул писатель. — Нет!
Бутылка выпала из рук ребенка, ударилась об пол и раскололась. Алая, густая, как кровь, жидкость, шипя, вылилась на пол. Мальчик испугался, он думал, что в бутылке молоко. Каждое утро молочник ставил у порога бутылку с молоком. Мама в длинной ночной рубашке, босиком, подходила к дверям, брала бутылку, выливала молоко в кастрюлю, а пустую бутылку выставляла за дверь. В окно заглядывал серый рассвет. Мальчик слышал голос отца. Отец брился, глядя в зеркальце, висящее на стене. Лицо его мальчик забыл, но пение его осталось в ушах навсегда.
Тронный зал внезапно осветился, вошли царь с царицей, шурша алыми шлейфами, в сопровождении свиты. Заиграли трубы, загремели барабаны, с хоров грянули гимны, и мальчик, сметенный чьим-то плащом, затерялся в этой суете.
Потом с прохудившегося неба пролился розовый свет и наполнил собой мир, как стеклянный сосуд. Все лишено было твердости и определенности. Извивались деревья мягко, как водоросли. Опустилась странная тишина, тяжелая, непроницаемая, и неожиданно в этой тишине кто-то заговорил. Сначала голос доносился глухо, издалека, затем в нем зазвучали металлические ноты, он ножом проник в грудь и громом загрохотал в сердце: «Встань и иди!» Он встал и пошел. Он ничего не видел, потому что вокруг не было ничего, только туман, и в этом тумане он должен был брести бесконечно: кто-то, не видимый в тумане, пятясь назад, звал его за собой, приказывал — иди сюда! Он долго следовал за этим голосом, пока, наконец, усталый, но счастливый, не прилег в тростнике. Это был его угол, где он мог передохнуть, наглотаться воздуха — как амфибия, чтобы завтра не задохнуться от пыли и холода. Здесь ему никто не помешает, и он может вытянуть свое усталое тело.
Читать дальше