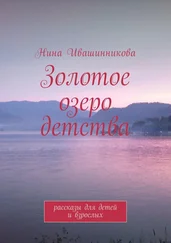Зависеть от прислуги, просить ее об одолжении считалось величайшим падением для людей, которые не представляли себе, как видно, даже в крайней бедности жизни без кухарки.
Однажды я обратил внимание на плохонькую черно-белую репродукцию в рамке под стеклом. Она висела над дверью, прямо у меня над головой, и лишь поэтому я, наверное, не замечал ее до сих пор. Там была изображена молящаяся дева в одной сорочке. Волосы девы картинно ниспадали, глаза, полные слез, обращены вверх, к богу, надо полагать. А сложенные молитвенно ладони просили верить, что она раскаивается в чем-то и лишь нечаянно показывает сейчас обнаженное плечо… Лукавым человеком был художник.
Я разика два-три украдкой взглянул на деву, но фрейлина заметила и обрадовалась:
— Правда, прекрасно? Какая чудная картина!
Фрейлина смотрела на меня с всегдашней своей восторженной сумасшедшинкой и тоже молитвенно сложив ладони. А я недоумевал, как это можно любоваться скверной репродукцией с фальшивой картинки. Ведь славились смолянки не только воспитанием, но и умом, и образованностью.
— Знаете, Володя, у меня брал уроки немецкого один коммунист, он был в восторге и так просил, так просил меня подарить ее! Но я отказала…
Слово «коммунист» было произнесено как-то так вот, как мы с вами никогда не сможем. Даже «людоед» или «марсианин», «селенит» или «черт с хвостом» — все будет не то… не таким чуждым.
Зато с особенным трепетом, с каким-то болезненным восторгом произносила она слово «государь» и вкладывала в это слово особый смысл, нечто неземное присутствовало в нем. Отказывалась ли она принять действительность, или это пришло потом?.. Так, однажды, когда я что-то произнес о революции, фрейлина сделала большие глаза, и как о совершенно очевидном мне было сказано:
— Революция? Да бог с вами, Володя, не было никакой революции. Просто в Петербурге два дня не было хлеба, и государь отрекся от престола!
Вот так. Не было, оказывается, февральской революции. НЕ БЫЛО НИЧЕГО. Всеми силами души жаждала она, чтобы НЕ БЫЛО НИЧЕГО! И это стало ее верой, ее последним прибежищем.
Я шел к ней на урок в тихий светлый полдень. Не пылало в небе солнце, не было облаков, и крыши домов, и листва деревьев, и мостовые серебряно светились. Всегда отчего-то грустно в такие дни, и люди становятся молчаливее и добрее…
Проходя мимо собора, я увидел на паперти крышку гроба, обитую розовым шелком. Что-то будто толкнуло меня, я остановился. Потом снял кепку и медленно пошел по ступеням. Войдя в полумрак храма, увидел розовый гроб и возле него знакомые тени. Они расступились, и я приблизился. Да, это была она.
Мерцали тоненькие свечи, равнодушные святые на стенах не хотели смотреть ни друг на друга, ни на людей.
В маленьких ручках фрейлина держала желтую свечку, которая нетрепетно горела ровным слабым светом, освещая ее сейчас строгое лицо. Лицо человека, который очень устал и ждет, когда же, наконец, все уйдут, но не хочет этого показать.
Я вышел и на паперти стал совать в карманы брюк такую нелепую здесь, ненужную, свернутую в тугую трубку тетрадь.
Серебряно светился наш белокаменный городок.
 ля начала скажу, что я никогда не был доктором. Я, правда, хотел им быть, даже в медицинский институт поступил и даже учился в нем… целый год. В мое время поступить в институт было делом не очень сложным. Особенно в медицинский или педагогический. В те времена все хотели быть полярниками, летчиками, инженерами, мореходами, командирами, а врачами и учителями желающих стать было немного. Была даже такая неумная поговорка: «Пед да мед — хуже нет».
ля начала скажу, что я никогда не был доктором. Я, правда, хотел им быть, даже в медицинский институт поступил и даже учился в нем… целый год. В мое время поступить в институт было делом не очень сложным. Особенно в медицинский или педагогический. В те времена все хотели быть полярниками, летчиками, инженерами, мореходами, командирами, а врачами и учителями желающих стать было немного. Была даже такая неумная поговорка: «Пед да мед — хуже нет».
А я давно уже хотел стать врачом, исцелять страждущих радиоволнами и электричеством, жаждал открыть неизвестную человечеству биоэнергию, заставляющую, как я полагал, биться человеческое сердце. И еще мне хотелось «уничтожить боль», изобрести этакую какую-нибудь электроанестезию… Я и о многом другом в этом роде мечтал, еще когда учился в школе и безоглядно увлекался радиолюбительством.
Но тут необходимо коротенькое отступление. Лет девяти-десяти я однажды с приятелями залез на крышу невысокого сарайчика в соседнем дворе, куда какая-то старушка загоняла по вечерам своих коз.
Что нам надо было там, на крыше, кто его знает. Шалили от безделья. И доигрались. Я провалился сквозь эту крышу, полетел вниз и сидя ударился о кирпичный пол. Посадка произошла настолько жесткая, что не быть бы мне живу, да спас меня широкий кожаный пояс с пряжкой флотского образца. От боли в животе и спине я пришел в себя не сразу. Помню, вокруг темно, сверху надо мной большая голубая дыра, чья-то голова заслонила ее… Ребята, слышу, отворяют сарайчик, вбегают. Помогли мне выбраться на залитый солнцем двор, позвали взрослых, кто-то из них отнес меня домой.
Читать дальше
![Владимир Воробьёв Я не придумал ничего [Рассказы для детей и взрослых] обложка книги](/books/417179/vladimir-vorobev-ya-ne-pridumal-nichego-rasskazy-d-cover.webp)
 ля начала скажу, что я никогда не был доктором. Я, правда, хотел им быть, даже в медицинский институт поступил и даже учился в нем… целый год. В мое время поступить в институт было делом не очень сложным. Особенно в медицинский или педагогический. В те времена все хотели быть полярниками, летчиками, инженерами, мореходами, командирами, а врачами и учителями желающих стать было немного. Была даже такая неумная поговорка: «Пед да мед — хуже нет».
ля начала скажу, что я никогда не был доктором. Я, правда, хотел им быть, даже в медицинский институт поступил и даже учился в нем… целый год. В мое время поступить в институт было делом не очень сложным. Особенно в медицинский или педагогический. В те времена все хотели быть полярниками, летчиками, инженерами, мореходами, командирами, а врачами и учителями желающих стать было немного. Была даже такая неумная поговорка: «Пед да мед — хуже нет».


![Владимир Воробьёв - На одном коньке [Рассказы]](/books/395131/vladimir-vorobev-na-odnom-konke-rasskazy-thumb.webp)
![Владимир Воробьёв - Выстрел в лесу [Рассказ]](/books/395476/vladimir-vorobev-vystrel-v-lesu-rasskaz-thumb.webp)
![Владимир Воробьёв - Большой крючок [Рассказы]](/books/408360/vladimir-vorobev-bolshoj-kryuchok-rasskazy-thumb.webp)