— Он у вас удивительный человек, — твердила Люда. — Удивительно чистый. Я вам завидую. — Она повторила это несколько раз, словно боясь, что ей не поверят.
Теперь, как никогда раньше, Вера понимала: Юра за всю их совместную жизнь ни разу не дал повода заподозрить себя в неверности.
Ей стало жаль мужа — вечно на службе, несменяемый часовой. Так было в Карманово, так продолжается и сейчас. Граница в Туркмении, граница на западе, граница на Дальнем Востоке, снова граница на западе, детство и юность прошли там же — ничего для себя.
Но чаще она жалела себя. В Карманово, например, жила надеждой: разгорится когда-нибудь и наша звезда, не век же томиться в ожидании перемен к лучшему. Но разве что-нибудь изменилось? Ну, переехали в областной центр, в большой город. И что в итоге? Граница дважды! Та, которую охраняют, и граница между ней и мужем.
Вера разволновалась. Не могла уснуть. Ночь тянулась мучительно долго. Она силилась понять, почему тяжесть на душе, если все складывается как нельзя лучше — ведь объяснились. Лежала, глядя в потолок. Юра, усталый, спал как убитый. Вчера после ее истерики на нем лица не было.
У Веры появилось желание погладить лицо мужа, расправить глубокую складку между бровей, приласкаться. Пусть бы даже проснулся, обнял ее, улыбнулся…
Вдруг ей почудилось, будто у изголовья притаилась та самая аспирантка, о которой как-то между прочим упомянула Ефросинья Алексеевна, притаилась и разглядывает обоих — ее, Веру, и Юрия, как разглядывала, наверное, своих жуков, приколотых булавками к листу картона. От возмущения ее бросило в жар, подушка под головой стала горячей. Вовремя спохватилась. «Да что это я? С ума схожу?»
Так отчего же все-таки тяжесть?
«Может быть, я только себя люблю, одну себя, наряды, в которых негде и не перед кем красоваться? Сытую жизнь? Свободу?.. Да, да, я могу покупать вещи, не спрашивая о цене, готовить или не готовить обеды и ужины, сидеть весь день с вязаньем или с книгой, а вечером жаловаться на усталость. И даже Мишку, родного человечка, сбагрила папе, больному и старенькому…»
У нее сжалось сердце, когда она вспомнила папу и Мишу. Папа за последнее время сдал, осунулся. Вся его жизнь сосредоточилась на внуке, и на дачу в Дофиновку перестал ездить, задыхается в городе, в доме, у плиты, в беготне по магазинам. И это в его-то годы! С его астмой…
«Ты давно ничего не пишешь», — упрекнул ее Юра. А не подумал, каково ей жить вроде бы вдвоем, а на самом деле в постоянном одиночестве…
Как долго тянется ночь, скорее бы утро. Юра уйдет на службу, и они с Ефросиньей Алексеевной станут наводить в мастерской порядок. Соседка обещала помочь. У нее несколько дней отгула за ночные дежурства в больнице… «Погоди, Юрочка, немного погоди, скоро увидишь, разучилась ли я владеть кистью. А собственно говоря, почему мне надо доказывать? Ведь он мне муж. Почему, собственно, я ожесточаюсь?..»
Обрадовалась голубям за окном. Ощутила под сердцем радостный холодок. Такое с ней случалось перед большой, вдохновенной работой, тогда она вся отдавалась любимому делу, и другие заботы переставали существовать.
Она была тронута до глубины души, когда увидела, что Юра, только поднявшись, сразу пошел смотреть мастерскую.
Сизарь стучал в окно черным клювиком, позади топталась голубка. Сизарь тянул шею, стараясь заглянуть в человеческое жилье, в тепло… Это было прекрасно. Это осталось в ней, и она как-то особенно сильно почувствовала это движение обоих голубей. Она обязательно выразит это, но без слащавой сентиментальности. Вера знала, как это выразить…
Ефросинья Алексеевна долго не приходила.
Вера, чтобы не терять времени, принялась наводить порядок в мастерской своими силами: вымыла окна, развесила по стенам этюды — несколько пейзажиков, натюрморт с головой леопарда с оскаленной пастью, набросок портрета молодой женщины. Взгляд ее задержался на трех однотемных этюдах незавершенной картины. В трех вариантах: исполненный маслом кусок заснеженной поляны с каплями крови на нетронутой белизне, чуть поодаль несколько перышек с зеленоватым отливом — крохотная деталь трагедии; на втором — тот же снег, кровь и растерзанная птица и наконец третий — кровь на белом снегу и на втором плане убитая птица…
Она стояла перед этими этюдами и не понимала, зачем написала такое. Силилась припомнить — тщетно. Кажется, начала писать с натуры сразу после «Рябинового пира». Очевидно, тогда. И этюды так и остались этюдами. Почему?..
Читать дальше
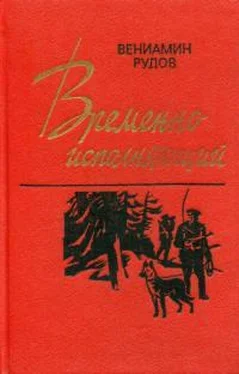







![Александр Любимов - Рисунок, исполняющий желания [Как заставить подсознание работать на вас] [litres]](/books/397565/aleksandr-lyubimov-risunok-ispolnyayuchij-zhelaniya-ka-thumb.webp)

