— Снегу накидает, — заметил Холод. — На заставу поедете?
— Пешком пойду, Кондрат Степанович.
— Понятно, товарищ подполковник. Пройдитесь. До заставы по Гнилой доберетесь. А нас не забывайте.
Они простились, и Суров ушел.
В лесу, который начинался сразу за домом, Суров стал на тропу. Старые сосны со всех сторон плотно обступали сбегавшую вниз затравенелую колею, впереди синел ельник, а молодые березки на вырубках уже не казались беззащитными черно-белыми прутиками, гнущимися безвольно даже на слабом ветру, — вымахали в славные деревца, нарядные даже без листьев; пни выкорчевали, во впадинах зеленела вода — как весной. То и дело оглядываясь и узнавая знакомое, Суров чуть не прозевал поворот на Гнилую тропу. Наверняка прошагал бы дальше по колее, не окажись на пути выворотень. Оглянулся и увидел еще один и еще — на добрых полкилометра, громоздясь одна на другую, лежали поверженные выворотком старые сосны. Видно, их повалило совсем недавно — земля на корнях еще не успела высохнуть и осыпаться.
На Гнилой под ногами шуршали листья. Где-то за ельником долбил сосну дятел. Суров прислушивался к жизни леса — и в него вливалась тихая радость, на душе становилось теплее. Он узнавал ложбинки, отдельные деревья — все те ориентиры, которые ему так были необходимы пять лет назад, когда он командовал заставой.
Тропа вывела Сурова в Дубовую рощу. Полный воспоминаний, радости встречи и узнавания, вступил он в нее. Память совершенно неожиданно воскресила рев той, давнишней грозы, треск сучьев под порывами ветра, яростный блеск молний в лохматом небе, Люду Шиманскую и его самого, подхватившего девушку на руки, чтобы перенести ее через клокочущий поток. Вспомнил все до мельчайших подробностей: ее теплое дыхание, сильно бьющееся сердце рядом со своим, колотившим в ребра, и испуганный Людин взгляд.
Он с удивлением обнаружил, что рад тому, что Люда здесь, и это показалось ему странным, потому что между ними никогда не было каких-то особо теплых отношений.
Прибыл на заставу, и воспоминания сразу отступили. Суров долго ходил, дотошно осматривал хозяйство, и придраться было не к чему.
Невозмутимый Колосков держался в тени, не лез на глаза, если не спрашивали, помалкивал. Синилов тоже был не особенно разговорчив. Сурова это устраивало куда больше, чем если бы начальник второй сразу взялся пояснять, что вот, дескать, без вас тут кое-какие перемены произошли.
Час от часу Суров мягчел. Теплело на душе от непоказного порядка во всем — начиная от внутреннего и кончая границей. Гораздо лучше стало на второй — к такому выводу пришел Суров к тому времени, когда дежурный позвал его к телефону.
— Еле нашел тебя, — признался Тимофеев, здороваясь. — Вчера искал, не дозвонился, ты был в пути. Возвращайся в отряд.
— Но ведь я ничего не успел сделать. К чему такая спешка?
— Командир убывает сегодня в отпуск. Требует тебя для личной беседы. Одним словом, возвращайся. Получишь ЦУ… — Явно что-то недоговорив, Тимофеев замолчал. После паузы добавил: — Ждем тебя. Карпов просил не задерживаться. О делах пока все. А теперь супруга хочет поговорить с тобой.
— Чья?
— Твоя, разумеется.
Суров не успел ни удивиться, ни спросить, каким образом Вера оказалась в отряде, когда по всем расчетам ей полагается быть на юге, и вправду услышал ее голос:
— Первым делом успокойся — ничего не случилось. Просто я вчера не улетела. Посадку отменили из-за нелетной погоды, до ночи продержали в аэропорту, а затем предложили или неопределенное время ждать или сдать билет. Я предпочла последнее.
— Ну и правильно. Поезжай сегодня вечерним поездом. — Вера пыталась возразить ему, но он прервал ее, сославшись на занятость. — Дома решим этот вопрос. Все, Вера. Скоро приеду.
Он вышел во двор, где сильный ветер гонял сухие листья, сучья, пыль. К концу ноября на Черной Ганьче всегда так: посвирепствует погода несколько дней, ветер пронесется по окрестным лесам, выворотит с корнем деревья, разметает в поле стога, а затем, будто устав, стихнет на время, и тогда в полном безмолвии повалит снег — мягкий, пушистый. Он укроет землю и прояснит дали, выгонит из лесу разную живность поближе к жилью, где есть чем поживиться, например оголодавшего русака, к курятникам и стожкам сена — рыжую воровку, и, как ни хитра, она оставит на девственной белизне следы мышкования; к рябинам устремятся снегири, дрозды и синицы, птичий клекот и писк долго будет отдаваться в ушах, а в глазах не перестанет рябить от многоцветья птичьего оперения — розовато-коричневых свиристелей, малиновых клестов, красных щуров.
Читать дальше
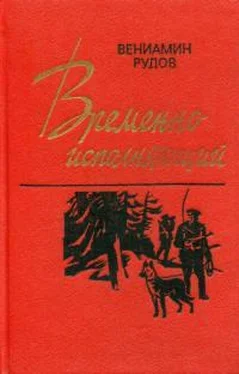







![Александр Любимов - Рисунок, исполняющий желания [Как заставить подсознание работать на вас] [litres]](/books/397565/aleksandr-lyubimov-risunok-ispolnyayuchij-zhelaniya-ka-thumb.webp)

