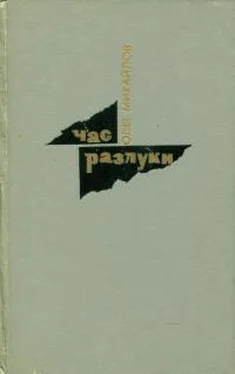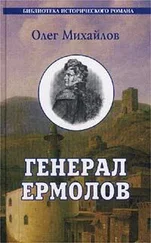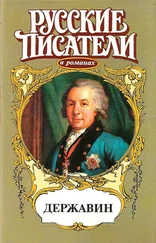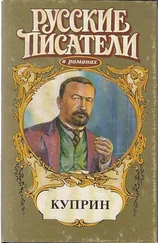Алексей благодарил за напоминание, понимая, что рядом с говорящим стоит Алена и слушает его, его слова. Затем он возвращался к столу, к разложенным картам, к канасте, которая затягивалась заполночь. Алена обычно не спала, ожидая его. «Как мне надоело, — сказала она потом, — лежать и вздрагивать от стука дверцы каждого такси…» Раза два, возвращаясь, он заставал Алену в подъезде их дома на Тишинке со смазливым блондином и, делая равнодушное лицо, бросал на ходу:
— Уже поздно… Пора спать… Пойдем…
Ревновал ли он ее к этому Радику, давнему ее приятелю, сыну известного актера и, как полагается, неудачнику, кропавшему декорации в том театре, где играл отец? Да нет же! Слишком явно ловила его Алена на эту удочку, да и ее наивное стремление всеми средствами повлиять на него не настораживало, а успокаивало. Алексей чувствовал, как сильно хочет она прочной, основательной жизни, как страшится вернуться в подвал на Зацепе и как ценит поэтому их союз.
Быт у них был неправдоподобно легкомысленным по отношению ко всему, что касалось будущего Алексея, его литературной карьеры, его общественного роста. Приведя на Тишинку Алену, он скоро с облегчением бросил работу в журнале, отказался от положения и постоянных денег в неопределенной надежде на случайные заработки. Она же полгода как ушла из ГУМа, немного снималась на Мосфильме в эпизодах (он видел ее промелькнувшее лицо в «Девушке с гитарой»), а теперь забросила и это, отдавшись маленькому хозяйству и нехитрым, но милым женщине заботам.
Они просыпались в двенадцатом часу, подолгу валялись в постели, слушая музыкальные передачи. Затем кто-то шел за завтраком, покупал калачи, масло, двести граммов белужьего бока, а оставшийся молол и варил кофе. Потом они гуляли, забредали в какой-нибудь кинотеатр, болтали о пустяках и возвращались на Тишинку.
Единственное, чего он добился — заставить ее ходить в вечернюю школу: проверял тетрадки, спрашивал о заданиях. И чем дольше они жили, тем меньше думал о загсе, считая, что и так все ладно; Алена, к его удивлению, тоже не заговаривала об этом.
Однажды он проводил ее на занятия, а сам отправился в Лужники, где на катке уже собрались все его приятели — даже Смехачев прикатил. Возвращаясь с приятной ломотой в ногах, Алексей нашел записку: соседка, у которой был телефон, сообщала, что Алену увезла «скорая помощь» с переломом руки. Он побежал к соседке, стал обзванивать, начиная с института Склифосовското, все пункты «Скорой помощи» — Алены нигде не было. Снова позвонил в Склифосовского, попросил еще раз проверить. Ему ответили:
— Все совпадает, кроме фамилии: Елена Константиновна… Девятнадцать лет… Перелом запястья… Но не Паталах, а Егорова…
Бедная! Она назвалась е г о фамилией, рискуя, что Алексей не разыщет ее! Так ей хотелось того, чего он не предлагал.
Примчавшись на такси, он увидел в коридоре хирургического отделения ее подурневшее от слез, но еще более милое, родное лицо. Алена сидела после рентгеновского снимка, прижимала левой рукой к груди огромную от гипса правую и рыдала, рыдала. Ей не совсем точно соединили косточки запястья, и теперь хирург увещевал ее:
— Все прекрасно срастется… Вам же не придется профессионально играть на фортепьяно…
Нет, ей это было необходимо! То есть, конечно, она и не помышляла о карьере пианистки, но самая мысль, что в только что начавшейся молодой жизни, представлявшейся ей бесконечной по возможностям, для нее что-то уже закрыто и навсегда, — потрясла ее.
Ночью Алексей проснулся от странного, никогда не слышанного им звука. В темноте, в углу, где стояла тахта (он лег на раскладушке) тоненький голос выводил бесконечное:
— И-и-и… И-и-и…
— Алеша! Это ты? — с ужасом спросил он в темноту.
— Завел меня… — так же тоненько выводил голос. — А теперь жениться не хочет… И-и-и…
Наутро, встав с твердым решением немедля отправиться в загс, Алексей готовил на кухоньке завтрак. В коридоре он наткнулся на Мудрейшего, который сунулся без стука в каморку и теперь, извинившись, пятился назад, загородив необъятной плоской спиной проход.
— Папа, пропусти… — нетерпеливо сказал Алексей, балансируя кофейником и двумя тарелками.
Медленно поворачиваясь и освобождая вид на каморку, на тахту, на бледную от страданий Алену с огромной рукой в бинтах, Мудрейший промурчал:
— Ты ее не обижай… Она слабенькая, как воробушек…
В загс они шли молча, молча спустились в бедный подвал, где их встретила пожилая женщина с усталым лицом. Оформление счастья было стремительным: они заполнили две бумажки; женщина пригласила их в кабинет, сама поставила грампластинку, и сквозь шип заезженной иглы сытый голос заворковал: «Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра…» Затем женщина крепко, по-мужски встряхнула им руки: ему правую, Алене — здоровую, левую:
Читать дальше