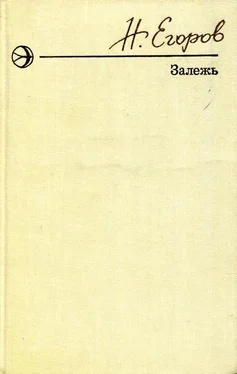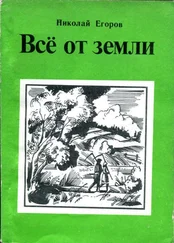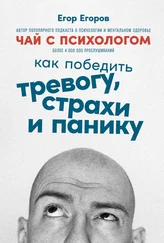— Ну-ну-ну. Да ну-ка ты, стой, не балуй! У, противная какая скотина, все глаза выхлестала.
Красуля коровенка была молочная, но скотина с норовом, потому от нее и колхоз отрекся, не принял, когда Марфа Кутыжиха, плюнув однажды на все хозяйство, повела сдавать ее.
— На мясо губить — жалко, — сказал ей тогда зоотехник, — и доить наши доярки замучаются. Я слышал, чужой кто даже близко не подходи к вашей корове, не подпускает.
Чужой — ладно, свои, заупрямится, кошке лакнуть не надаивают. Спасибо бабке-покойнице, научила приговору. Смешно вроде бы, а помогает.
Настя раздвоила репьистую метелку хвоста, привязала его к ноге Красули и, едва касаясь пальцами вымени, запричитала:
— Как батюшка-царь Давид во сырой земле смирно и кротко лежит, так бы и наша Красуля-басуля на тугих ногах смирно и кротко стояла и все бы молочко отдавала.
Красуля перестала жевать жвачку, разлопушила уши и слушает, не моргнет, как циркают белые струйки в подойник, оставляя крохотные воронки в духовитой парной пене.
— Как батюшка-царь Давид…
— Х-ха! Х-хараша-а комсомолка.
Настя взвизгнула и оглянулась — в кормушке, будто из гроба поднялся, сидел Данька.
— Данька?! Ф-фу. До полусмерти ведь ты меня напугал, пугало огородное.
— Чш-ш. Разоралась. Иди сюда. Не были тут по мою душу?
— Да кому нужна она, такая душа? Тараканья шкурка, а не душа. Я вот сейчас пойду скажу мамке, она те всыпет, драчун несчастный.
— Не ори, сказал. Ну-ка дай молока попить.
— Иди в избу, там и попьешь. Да на, на, только не выбуривай зенки свои, никто их не боится.
Данька пил долго, без отрыву, словно опасаясь, что если оторвется, то все, отнимут и больше не дадут.
— Ни-и-ич-чо ты промялся! — удивилась Настя ополовиненному удою. — Мамке-то сказывать, что ты сыскался, беглец?
Данька кивнул и вытер губы.
— Пусть она сюда придет. Я повинюсь, наверно.
— Давно бы так.
Настя выпустила Красулю и заторопилась в избу сказать матери, но возле прясла-междворка стояла соседка, и по деревенскому обычаю никак нельзя было пройти мимо, чтобы хоть на минуточку, да не остановиться.
— Здорово ли ночевала, Настасья. С кем это ты беседовала?
— Когда? — притворилась, что не поняла, Настя.
— Да в коровнике сейчас.
— А! С Красулей.
— Надо же! — тоже притворно хлопнула руками тетка Дарья. — Ай да Красуля. По-руськи выучилась. И храпела она же?
— Где?
— Да все там же, в коровнике.
— Суседушка, наверно, завелся, — отшутилась Настя и взбежала на крыльцо.
Она собиралась сразу сказать матери о Даньке, но та перебила ее.
— Ну ты, Настасья, совсем уж с ума сходишь, обленилась, — приняв от дочери подойник, заворчала Марфа. — Меньше не могла? Да ведь оно кабы не делить эту каплю — черт бы с ней, не жалко, а то: кошке — плесни, поросятам — плесни, Настеньке тоже только дай, дуешь, как воду…
— Фу, да обожди ты! Черт и выпил твое молоко. Сыночек ваш любимый сыскался, в хлеву прячется от людей.
— О-о-ой ли, — простонала мать, — не горе ли с вами? Что делать-то?
— Чеглачиха, похоже, видела его. Кто это, намекает, храпел у вас в скотнике?
— О-ёё-ёё, дурья башка. Ну-у-у, так теперь уж в районе известно, облаву жди.
Марфа сняла с гвоздя волосяное ситечко, прищуривая то левый, то правый глаз, осмотрела его на свет, понюхала, провела пальцами по сетке, стукнула берестяным ободком о лавку, вставила в горловину крынки краешком, цедит не по-летнему легкий надой. Настя достала из шкафа чашку, отломила кус душистого калача, крынку — на стол: вы как хотите, а мне на работу скоро.
Звякнуло горничное окно, дрогнул подойник, вспенились и потекли через край остатки молока. Стучали по верхней крестовине рамы, рукоятью плетки, с коня.
— Облава, — задохнулась Кутыжиха.
— Прямо. Облава тарабанила бы тебе. Бригадир наш.
— Анастасия Ефимовна! Сено грести. Кутыгина.
— Слышу, слышу, — убежала в горницу Настя. — А где?
— У Мокрых Кустов. Так что заедем за тобой.
«Уже Анастасия Ефимовна», — позавидовала дочери мать. Она всю жизнь Марфа. Борозденкина по отцу, Кутыжиха по мужу.
Марфа принесла из казенки туесок квасу, слазила в подпол за горшком сметаны, прихватила малосольных огурчиков.
— Вот как потащишь? День.
— В лукошко склади. Будто за яичками.
— За яичками от шести куриц с лукошком не ходят, с пригоршней. Народ не глупый, доченька. Ох вы, детушки, детушки Добро, у кого их нет, а тут вечная тревога, ро́стишь — не убейся, вырастила — не убей.
— Никто вам не виноват, сами виноваты. Вот и таскайся теперь с передачками.
Читать дальше