Может быть, поэтому некоторые женщины, жалея ее, частенько к ней заглядывали, может быть, и вправду она давала чьим-то снам точную в своей простоте отгадку — словом, никто почти Хульшу за ругань не осуждал. К Валентинке Хульша относилась сердечно, гладила по голове, повторяла мужским корявым голосом: «Расти, милая, цвети, славная, дай бог тебе счастья да радости, кадит твою переносицу». Валентинка на ругань не обижалась — понимала, что иначе у Хулыпи не хватает слов. Да и в деревне взрослые при ребятишках не очень-то стеснялись, так что ухо у Валентинки было привыкшее.
Когда Валентинка кончила восьмилетку, Хульша подозвала ее к забору из своего огорода, просунула между жердей неотмывно черную руку: «Возьми-ко это да носи. В укурат к глазам тебе, девка». На ладони голубыми капельками дрожали сережки. Казалось, тронь — и они стекутся в одну большую, дохни — улетят к небу. Валентинка не решилась сразу их принять и взяла, когда Хульша заругалась…
И вот теперь, пока Валентинка умывалась, пока прихлебывала чай, она о Хульше думала. Никогда Валентинка не была суеверной, и впервые в жизни, пожалуй, показалось ей, что сон имеет какое-то скрытое значение, и надо бы рассказать его соседке.
Она стянула с себя коротенькую, тесную в груди и в бедрах майку, в которой спала, надела выцветшее, тоже ставшее тесноватым, платье, вигоневую кофточку нараспашку, повязала голову косынкою наглухо. Погляделась в зеркало: не выбиваются ли волосы. В сенках привычно вставила ноги в резиновые полусапожки, открыла дверь на крыльцо и остановилась.
Легонькая была над лесом заря, небо зеленовато и чисто плыло от нее кверху. И так хорошо пахло созрелыми травами, прибитой росами дорожной пылью, горьковатым дымком, и так свежо было, так славно в это раннее утро, что сон позабылся. Она поскорее заперла двери, сбежала с крыльца, свернула в переулок. Трава забрызгала сапоги, они заблестели, будто лаковые. Знакомая тропочка заросла мелкой муравою, пошуркивала под ногами. Вдоль огородов справа и слева черными листьями грозилась крапива. Морща привздернутый нос, Валентинка улыбалась и этой муравке, и этой острой крапиве.
И всегда ей по утрам, когда торопилась к ферме, было так хорошо. Вот зимой метель случалась, катила в лицо, хлестала так, что саднило щеки; или резал дыханье, куржаком опушал ресницы и брови мороз; вот осенью либо ранней весною грязища всасывала ноги — все равно радовалась Валентинка. Будто свидание ожидало ее.
А у нее и взаправду было свидание. Она складывала кофточку в шкафчик, снимала с вешалки белый халатик и выходила из раздевалки чистая, похожая на сестру милосердия. Доярки позевывали, переговаривались вполуголос о всяких деревенских новостях; Валентинка, не задерживаясь, по деревянному настилу переходила в коровник. Ее обдавал теплый парной запах коровьего жилья, мокрых опилок. Шумное дыхание, пофыркивание, позвякиванье цепей, самопоилок, шуршание ленты конвейера, побулькивание доильных аппаратов было для нее вроде музыки. Ласковыми чуткими пальцами гладила она упругие, как резина, шелковистые сосцы коровы и говорила ей какие-то напевные под эту музыку слова и сама не понимала, откуда они появляются. Корова поворачивала большую ноздрястую морду, переставала жевать, влажным добрым глазом косилась на Валентинку, лишь иногда взмаргивая белесыми ресницами. И так переходила Валентинка ко второй, третьей, десятой, с каждой разговаривая по-особому; чистила их, теплой водою из ведерка обмывала огрузшее за ночь узлистое вымя, приставляла к нему доильные стаканы… И на этот раз все так было.
Зинаида Андреевна, твердо ступая по чисто прометенному цементу пола, оглядывала свое хозяйство. Лицо ее, как всегда, было властным, верхняя губа плотно притискивала нижнюю. Из-под жестких, как щетка, бровей придирчиво поблескивали серые маленькие глаза. И только задержавшись на Валентинке, они на мгновение помягчали, будто теплом оплеснуло их изнутри.
Отчего-то нехорошо было на сердце: материнское предчувствие, что ли. Никогда Зинаида Андреевна не рожала, никогда не хотела даже притворяться для Валентинки матерью. В девичестве не видна была собою, знала это, спокойно принимала. Может, и нашелся бы человек, которому не фигуру, не преходящую смазливость надо, а надежную опору в семействе до самой старости. Но штабной блиндаж накрыло фашистским снарядом, и телефонистку Зинаиду Марфину откопали почти мертвую, с развороченным животом. Сколько госпиталей было, сколько всего — никому она не рассказывала. Выписывала ее белокудрая врачиха в благородной от беременности красоте, ладонью слушала под своим халатом живот. Сказала с женской печалью:
Читать дальше
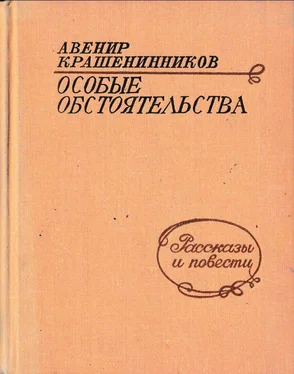

![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)


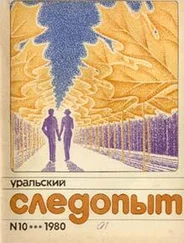



![Авенир Крашенинников - Поющий омуток [Рассказы и повесть]](/books/394626/avenir-krasheninnikov-poyuchij-omutok-rasskazy-i-pov-thumb.webp)


