Нет, это не рыбалка, это подлинная охота; и скучно мне, муторно после такой охоты зевать над ленивым поплавком и ждать, пока заблагорассудится какому-нибудь тупоумному лещу потянуть червяка…
Но в июне не только ради хариусов приходил я на Хмелинку, не только ради особенной ее красоты. В июне у меня был праздник.
Птицы почти не пели, им некогда было петь: в гнездах, разинув рты-кошельки, торчали ненасытные птенцы. Маленькие серые дятлы, истошно вереща, на бреющем полете обстреливали меня, отгоняя прочь.
— Не бойтесь, не трону, — уговаривал я, но все же вынужден был спасаться бегством.
Бесстрашный от любопытства бурундук сел на валежник за моею спиной. Краешком глаза видел я его светлую грудку и молитвенно сложенные передние лапки. Значит, дождя долго не будет… Ондатра плыла, отдаваясь течению; заметила меня и движением отменного ныряльщика, ушла в глубину, лилово блеснув на мгновение своим драгоценным ворсом. Вечерело, и хотя солнце вовсю еще играло на холмах, долина Хмелинки уже задремывала в полусумраке, и туман предчувствовался над нею, и в отдаленных кустах начал пробовать свой скрипучий голос коростель.
Медовые запахи потянулись, такие терпкие, что закладывало грудь; повеяло сыростью. На излюбленном месте я развел костерочек, положил на рогульки поперечину, подвесил котелок, вычистил на лопушке десяток харьюзков, посолил, приготовил пару картошек, луковку, лавровый лист… Все это любому рыбаку известно: и ночные думы у огня, непременно философские, и странные звуки, которые рождает, преувеличивает и гасит темнота, и теплая дрема перед рассветом… Все так знакомо, так знакомо… Исчезли куда-то нудные комары. Далекие детские голоса, нет — девичьи голоса, еще не захрипшие от горя, от слез.
Это она, Хмелинка…
Да велики ли в июне ночи — заря догоняет зарю, и вот уж я умываюсь тепловатою в этот час водою, заливаю белесый круг пепла и тихонько иду вверх по речке, с трудом различая дорожку. На вершинах увалов давно рассвело, макушки елей и осин окрашены солнцем, и только бы не опоздать, не упустить того получаса, ради которого я приехал сюда, коротал ночные часы.
Я раздвигаю тесные ветви ольховника, пробираюсь сквозь кустарник, сажусь на поваленный ствол. Маленький омуток смутно сереет передо мною. Где-то булькает, переливается водопад, а здесь сонная тишина, огражденная со всех сторон стволами и листвою. Только бы не набежали, как это частенько бывает, рассветные тучи и не испортили праздника! Начинает зудеть голодная комариха, но я не обращаю внимания. Я жду.
Вот, вот начинается. Чуточку подрумянился ольховый листок. Резная тень от неведомой ветки в омутке отразилась. Вот он, теплый луч солнца! Он скользнул по стволу на той стороне, словно ощупывая его, замер расплывчатым овалом, в котором что-то едва уловимо трепетало. Вот растянулся, передвинулся, провалился в листву, высветлив в ней дымчатый прямоугольник, и в омутке чуть наметилось песчаное дно. Как все-таки медленно!..
Но все ниже, ниже, все шире растекается тепло, проникая в тайники зарослей, рассыпая по сторонам веселые зеленые брызги. Омуток пробуждается, что-то посверкивает на дне. И вдруг — вот оно!
На той стороне, разбуженные лучом, раздаются неведомые звуки. Словно кто-то берет аккорд гитары. Один и тот же аккорд. Сначала бережно, как бы пробуя, потом посильнее, понастойчивее, повторяя и повторяя его.
Что это, я не знаю да и знать не хочу. Вытянувшись, позабыв обо всем на свете, я слушаю, слушаю…
Но речка начинает соперничать в полную силу, но солнце заливает весь берег, и музыки нет, она отыграла свое; я уношу ее с собою, я завтра буду ждать ее снова и послезавтра тоже, если посулит мне бурундук хорошую погоду.
Я не мог утаить этого, я не чувствовал себя вправе единолично справлять свой праздник. Был у меня приятель, который казался мне ближе всех остальных. Он очень любил музыку, и вьюжистыми зимними вечерами мы иногда вместе рылись в его богатой фонотеке, перебирая пластинки с записями Баха, Шопена, Моцарта…
Он откидывался в кресле, восторженно замирал, иногда поглядывал на меня, как бы приглашая разделить этот восторг.
— Нет, ты только послушай, только послушай! — вскидывал он тонкий сухой палец и трескучим тенорком выпевал какую-нибудь музыкальную фразу.
Я терпеливо сидел, наблюдая, как по бесчисленным бороздкам черного диска бежит корундовая игла, мне было неловко признаться, что ничего особенного я не чувствую: наверное, просто не был подготовлен. Но приятель сокрушался, что мне медведь на ухо наступил, и опять замирал. На подвижном лице его выражалось все, что он испытывал, порою на ресницах поблескивала слезинка, и мне было гораздо интереснее следить за его физиономией.
Читать дальше
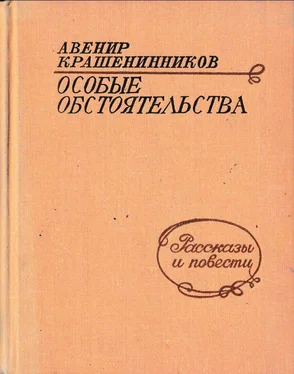

![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)


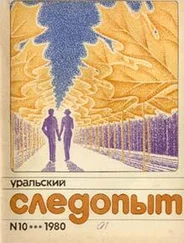



![Авенир Крашенинников - Поющий омуток [Рассказы и повесть]](/books/394626/avenir-krasheninnikov-poyuchij-omutok-rasskazy-i-pov-thumb.webp)


