Грянуло ружье, запрыгало по тайге вспугнутое эхо. Лосиха пала на колени, а потом тяжело плюхнулась на бок. Сохатый метнулся в кусты и остановился, ошеломленно замерев.
Человек не заметил, что сохатый остановился, человек бежал к вытянувшейся лосихе. Косые глаза его желто блеснули, когда он нагнулся. Неуловимо быстро выбросила лосиха ногу в последней вспышке силы, и добытчик упал, пробитый насквозь острым копытом. Глаза его оледенели, но не было в них росомашьей свирепой желтизны, а только какое-то удивление — будто сразу легко сделалось человеку.
Из-за деревьев испуганно выглянул второй. Был он еще вовсе молод, в первой бороде, легкой, как перекатная пена. Он глухо охнул, растерянно заметался среди кустов, подхватил ружье и, не целясь, выстрелил в голову лосихе.
Грохот пробудил сохатого. Закинув за спину рога, ничего не замечая, ринулся он по лесу прочь, прочь от страха, что внезапно обрушился на него.
Мелким дождем сыпались иголки, отлетали тонкие листья, как в ветровал, срываясь со стебельков, верещали сороки, цыкали бурундуки — предупреждали лесную братию о безумстве рогача. А он стремглав перескакивал овраги, таранил завалы и заросли. Лиловый туман застилал глаза. Не увидел он, как поредел, а потом сдернулся подлесок и сосновый сухой бор упал под копыта седым и рыжим настилом. Быстро-быстро мелькали яркие стволы. Потом опять загустела, стеснилась тайга, он очнулся, напился воды из бочажины и уходил, уходил все дальше в чащобы, туда, где никто не стреляет, где существуют строгие законы поединков и любви.
Праздник начинался всякий раз, как сходил я с теплохода на дебаркадер, подымался по деревянной лестничке на крутоярье и останавливался, чтобы оглядеться. Водохранилище сине лежало внизу, притихшее от жаркого полудня. Мучнисто-пыльная дорога, избы недалекой деревни, редкозубый гребешок елей по изгибу оврага — все было знакомым по прошлым годам и в то же время необъяснимо иным. Легко пахли поспевающие травы, и я опять удивлялся, что могу, оказывается, так глубоко дышать. Сипели кузнечики, звенели жаворонки, но слух вскоре привыкал к этим бесконечным звукам и улавливал уже другие: отдаленный возглас электрички, мотор бегущего катера.
По узенькой тропинке, по выгону со смутно белеющими сквозь траву головками горного клевера я уходил к сырым осинникам, чутко насторожившим свои листья в ожидании ветра. Я узнавал старый пень, широкий, как стол, обрамленный сиреневыми факелами иван-чая, невысокий триангуляционный столбик, высохший, словно кость, и обязательно сидевшую на его макушке пичугу, узнавал понизовую поляну, сплошь в плотных бубенцах купавок; я почти бегом спускался к речке, к своей Хмелинке, и пил ломкую воду, студеную в любую жарынь.
Начиналась Хмелинка где-то в таинственных таежных оврагах и своенравно бежала по узкой долине, делая порою замысловатые петли. По веснам, она шумно гуляла, возвращаясь в старицы, срезая полуостровки, волокла и нагромождала коряги, обрушивала крутой правый берег вместе с деревьями, а потом шаловливо пряталась в заросли черемухи и ольховника, сплошь покрывалась белой кипенью цветения. Тогда с вечера до рассвета промытыми ключевыми голосами пели над нею соловьи.
Кое-где Хмелинку можно было запросто перепрыгнуть, а местами она становилась пасмурно-глубокой, и отражения деревьев, казалось, опрокидывались в бездонье. Вообще омутов у нее было бесчисленное множество, и каждый неповторимо отличался от другого.
Вот почти незаметными от прозрачности струйками мчится она по камням, по галечнику — воробью по колено — и внезапно скручивается в упругий зеленый жгут и бурлит, и кружит в котловине. Вот скользит по лакированной коряжине, подаваясь вбок, вбок, под сплошняк ветвей, под навес смородинника, и там замирает, будто задумавшись. Или, уныривая в завалы, выглядывает оттуда через тихие треугольные окна. А то принимает в себя какой-нибудь невесть где родившийся ручеишко и затевает с ним игру, и по песчаной бровке на дне катятся, переливаются зеленые, желтые, синие пятна.
В таких местах сторожкими тенями стоят хариусы. Махнет ветка, топнешь ли посильнее, пробираясь к ним, резко двинешься, воюя с комарьем, — мелькнут, и нету.
Как трудно без шума выпростаться из сплошных зарослей черемушника, ольховника, остро пахучей лютой крапивы, но еще труднее забросить леску, не зацепив ее.
Я рыбачу внахлест, без поплавка, насаживая на маленькую блестящую мормышку ручейника либо паута. На кончике удилища кивок-пружинка, чутко передающая поклевку… Летит мормышка в струе, падает в омут — и стремительный рывок, и мерцает, и бьется, и дрожит на крючке живое серебро. Заброс, второй, третий, и надобно идти дальше, снова подкрадываться, садиться на корточки, а то и становиться на колени.
Читать дальше
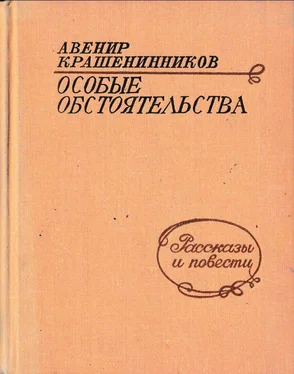

![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)


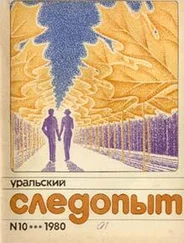



![Авенир Крашенинников - Поющий омуток [Рассказы и повесть]](/books/394626/avenir-krasheninnikov-poyuchij-omutok-rasskazy-i-pov-thumb.webp)


