Тонька показала синие от брусники зубы и убежала.
Паук юрко пополз вверх, вбирая в себя липкую паутину. Он растворился в сумерках под крышей, и Наська суеверно подумала: «Это добрый паук…»
На белой стене раскачивалась сгорбленная тень матери.
Лодка отвалила в море, волна выкатилась на песок, мотор часто заговорил, радуясь прохладе и простору. Сашка быстро пошел — он долго ждал, теперь всю ночь ему надо ехать, и лишь к утру он причалит к рыбокомбинату. Если не испортится погода. В шторм Сашка ночует в какой-нибудь бухте, жжет на берегу костер, поет русские и нивхские песни. Наська всегда говорила, провожая его: «Тиф ургг’аро! Хорошей дороги!» Сегодня Сашке никто не пожелал добра. Наська будет думать о нем, и если Сашка заночует где-нибудь под гудящей от ветра сопкой, ему не так будет скучно, он почувствует, что Наська не спит.
На крыльцо поднялся отец — она узнала его по неторопливым, бухающим шагам, — сиял громыхнувший замок, пригнул голову, переступил порог сеней. Большой, тяжелый, сделавший все предметы маленькими и незначительными, прошел в дом. Он не глянул на Наську — он никогда не глядел на нее, — но все равно у Наськи привычно екнуло сердце. Отец оставил запах кожи, табака, водки, и Наська знала: пока этот запах не выветрится, она будет вздрагивать от всякого звука.
Мать запричитала чаще, судорожнее. Потом она выговорила жалобно:
— Помолись, доченька.
И опять Наська не вспомнила ни одной молитвы. Она забывала их, когда ей очень надо было помолиться. Мать говорила обычно: «Это у тебя оттого, что страх есть, а веры мало…» Неверующая она, это правда. И все, все здесь неверующие, кроме матери. Им вера нужна, чтобы оправдывать свою дикую, сытую жизнь. В другом месте, среди людей, они забыли бы бога.
Наська вслушивалась в рокот мотора.
Он летел по тихой пустынной воде, отражался от скал, жил и не хотел умирать. Он стелил дорогу длинную и прямую.
Он звучал долго.
И когда Наська закрывала глаза и затихала, ей казалось, что это бьется ее сердце — звучно и беспокойно.
1961
Среда, 21 июня
Я стою на плоту — высокой деревянной пристани, — внизу шумит отливная вода, железно дрожат листвяжные сваи, а здесь, на скользких досках, — вороха скользкой рыбы, движение, голоса людей, лязг вагонеток. Где-то в заливе стучат «мотодорки», и всюду — вверху и внизу — кричат чайки. Мне трудно разобраться во всем этом. Я первый раз на рыбацком плоту, впервые в нивхском поселке Чайво. Что такое «Чайво»? Нивх, который перевозил меня на лодке через залив, сказал: «Кто знает? Старики рассказывают — травка здесь на косе такая росла, как чай заваривали. Кто знает?..» Это было вчера вечером, а сейчас мой перевозчик работал весовщиком, принимал, взвешивал рыбу, записывал центнеры. Он узнал меня, махнул мокрой брезентовой рукавицей, что-то крикнул. Его коричневое, скуластое лицо сбежалось в морщинки, будто от воды ударил ветер, и я понял — нивх радуется мне. Знакомый — уже хорошо. Почувствовав себя тверже (на скользких досках), я решил для начала вспомнить подробнее вчерашний вечер, чтобы лучше разобраться в этой «грянувшей» на меня новой жизни.
Вагон узкоколейки притормозил на полустанке, по ту сторону залива, в одиннадцатом часу вечера. Я спрыгнул в темноту и растерялся: холодно накрапывал дождь, странно, у самой земли, шумел стланик и где-то за ним, еще ниже, ворчало, погромыхивало, как далекая гроза, море. Приглядевшись, я различил за кустами чуть мелькающий огонек. Пошел к нему. Стали заметны белые срубы, доски, бревна — здесь, по-видимому, строится новый колхозный поселок. Кто-то вышел из сторожки, полыхнув светом открытой двери, прислушался, крикнул:
— Корреспондент?
— Да.
— Вот хорошо! Сейчас, однако, поедем. Греться будешь?
Человек подошел, сунул мне руку — от него запахло табаком, нерпичьим жиром, морской сыростью, — я догадался, что это нивх, рыбак, мой первый чайвинец, сахалинский абориген.
— Можно не греться, — сказал я.
— Хорошо. Опоздать можем. Отлив уже.
Он зашагал в кусты, к морю, и скоро мы были около лодки, на мокром, жидком илистом берегу. Вода уже отступила метров на двести, ее надо было догонять. Я поднял голенища резиновых сапог, взялся за борт лодки. Она пошла легко, гладкое дно ее, как намыленное, скользило по илу. Расплескивались лужицы, и из них, шлепая плоскими животами, выползали камбалы. Мне стало жарко, часто дышал и поругивался нивх. Но это было лишь начало: лодку пришлось толкать и по воде — на отлогом отливном берегу всюду проглядывали мели. Хлынул сильный дождь. Потом низко и широко ахнул гром, заполыхали молнии. Когда лодка закачалась на волнах, нивх спросил:
Читать дальше
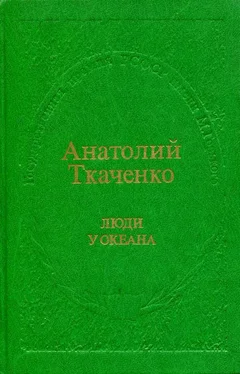











![Анатолий Ткаченко - Этюды о выдающихся украинцах [калибрятина]](/books/426044/anatolij-tkachenko-etyudy-o-vydayuchihsya-ukraincah-ka-thumb.webp)