Наська перебирала сеть, затянутую сухой рыбьей слизью, с нее сыпалась чешуя, куры склевывали блестки; когда проворная клушка остро укалывала босую ногу Наськи, она вскрикивала, взмахивала рукой. От невода пахло огурцами, какими-то южными растениями — так пахнет свежая корюшка, — больничным йодом водорослей, и Наська стала думать о Кубе, бородатом молодом Кастро, перевязанных белыми бинтами кубинских солдатах. Раскатистые, погромыхивающие удары, катившиеся из-за моря, ей казались теперь взрывами бомб, выстрелами пушек. Там в дыму проходили бородатые бойцы, там кто-то умирал под пальмой, красиво, как в кино. И кровь… Наське почудилась кровь — красно, вязко темнившая зеленую куртку бойца. Страшась своего воображения, Наська сказала шепотом:
— Ах, грехи наши…
Она встала и, все еще вслушиваясь в тревожащие раскаты, пошла к калитке. От речки бежала Тонька, смешно раскачиваясь на тонких ногах, оттопыривая острые локти, похожая на прыгающего кузнечика. Наська остановилась. Тонька подбежала вплотную, схватила Наську за фартук, не отдышавшись, выговорила:
— Когда Сашка Нургун приедет? Иван спрашивал.
— Скажи — скоро. Пусть на берег выходит.
Тонька мотнула головой, молча переглянулась с Наськой, показав этим, что ей можно доверять «тайные дела», побежала домой.
Наська просто, спокойно ответила Тоньке, будто для нее поездка на рыбокомбинат привычный пустячок, и теперь стояла в растерянности и удивлении. Лишь сейчас за все длинное, полное нетерпения утро она осмелилась подумать: «Скоро ехать…»
— Пресвятая богородица, помоги… — проговорила Наська, прислушиваясь и ловя в крике чаек, в глухом громыхании новый, едва рождающийся звук. Где-то на севере, за синими призрачными мысами, рокотал, захлебываясь далью, мотор.
Ноги у Наськи стали вялыми — у нее всегда от страха слабели ноги, — она боялась выпустить из рук калитку. Ей надо сделать только шаг, и она овладеет ногами — ведь они у нее очень крепкие, только шаг, — и она войдет в дом, скажет матери, что надо собираться. Наська не двигалась, и ее позвала мать. Она сделала этот трудный шаг, чуть покачиваясь, пошла к крыльцу.
Мать вынесла в сени чемодан, платье и ботинки. Наська переоделась, минуту постояла, потом на цыпочках пробралась к зеркалу, оглядела себя. Взяла черный карандаш, подрагивающей рукой, еле заметно, подвела брови. Еще глянула в зеркало, затихла, услышала тупые толчки своего сердца. Отец спал, отвернувшись к стене, трудно всхрапывая, и по его большому, словно настороженному уху бегала муха.
На берег вышли молча, не глядя друг другу в глаза.
Рокот слышался явственнее, веселее, теперь он напоминал ровное журчание ручья. Наська определила: лодка покажется минут через десять — вынырнет из-за мыса; минут двадцать будет идти к Заброшенкам… Подойдет к песчаному бару, где сейчас белым островом колышутся чайки, спугнет их, врежется острым носом в мокрый песок. Только бы скорей, только бы дождаться…
Мать сказала тихо, просительно:
— Береги себя, Настюшка, и долго не гости.
Пришел Иван, раскачиваясь и зависая на скрипучих костылях, поздоровался, сразу сел на песок. Тонька поставила рядом с ним коричневый побитый саквояж, осмотрела, общупала на Наське новое платье и побрела через лагуну к бару встречать лодку. Иван вытер платком лицо и шею, платок вымок, он расстелил его на горячем песке. Щеки у него были побриты, казались еще более впалыми, глаза от усталости не могли успокоиться, бегали виновато и жалостливо. Иван подсыпал под больную ногу песку и, стараясь справиться со своей слабостью, внушить к себе уважение, строго спросил:
— А батька знает?
Наська заметила, как на его плечах и спине пятнами темнеет, намокает потом гимнастерка, и ничего не сказала. Иван понимающе, по-своему едко хохотнул, чтобы хоть как-нибудь досадить ей, пренебрежительно отвернулся к морю.
Мать подошла к нему, угодливо попросила:
— Вань, ты уж присмотри за ней, нигде она не была, людей, поди, испугается.
Иван посерьезнел, глядя на Наську, выждал минуту:
— Да мне что, пусть слушается.
Лодка вышла из-за мыса, выплеснула в простор свой свежий, звучный рокот. Тонька по-дикарски заплясала на баре.
— Теперь уж скоро, — вздохнула мать.
Наська смотрела в море, сияние застилало глаза, грело, и она чувствовала, как веки набухают теплой влагой. Лодка чертила прямую синюю дорогу от мыса к Заброшенкам. Если смахнуть с глаз слезинки, можно увидеть Сашку — он стоит около ветрового стекла, вглядывается в берег. А вот уже видно широкое Сашкино лицо и улыбка, доверчивая ко всем и всему, чуть насмешливая. Чайки расступались, взлетали, с обиженным и удивленным криком неслись за кормой: наверное, Сашка вез в лодке свежий улов корюшки.
Читать дальше
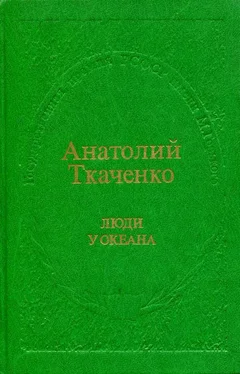











![Анатолий Ткаченко - Этюды о выдающихся украинцах [калибрятина]](/books/426044/anatolij-tkachenko-etyudy-o-vydayuchihsya-ukraincah-ka-thumb.webp)