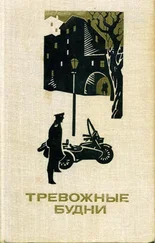— До какого? Пока не воспитается. А это у всякого по-разному. Люди — ровно камешки в море. Один обкатается быстро, другой, сколько волны его ни трут, все торчит углами в разные стороны.
— Вот когда углы в разные стороны, папочка, это называется индивидуальность. А окатыши — это серятинка.
Серафим Гаврилович покряхтел, напрягая мысль, но Юрий тут же подкинул новый вопрос:
— Как ты считаешь, что больше формирует человека — семья или школа?
В немудрящих на первый взгляд вопросах Юрия всегда таился какой-нибудь подвох, и Серафим Гаврилович не спешил с ответом — боялся попасть впросак.
— Больше семья, — без достаточной уверенности начал он. — В школе всех воспитывают одинаково, по единому образцу, а выходят из нее все пестрые. — И заключил утверждающе, на высокой ноте: — Стало быть, семья!
— Тогда все дети в семье должны быть одинаковые, — вмешалась в разговор Наташа. — А на поверку один в семнадцать лет уже что-то из себя представляет, — взгляд на Бориса, — а у другого в двадцать один ничего определенного, — взгляд на Юрия.
— Зато третья — законченный идеал. На словах, — немедленно отреагировал на этот щелчок Юрий. — Послушаешь твою вечернюю обедню — так все изысканно выглядит. Лирика отношений, равенство интеллектов, общность вкусов, половодье чувств… А на деле… Нашла образец… В ком? В Катриче! Ветрогон, юбочник, каких мало. К тому же еще зубоскал и пройдоха.
— Мальчик, не лезь не в свои дела, — ответила Наташа хладнокровно, с таким видом, будто выпад Юрия нисколько к ней не относится.
— Почему это девочке можно лезть, а мальчику нельзя? — поддел сестру Борис.
— Девочка действовала из лучших побуждений.
— Но и мальчик тоже.
Анастасия Логовна прислушивалась к пикировке, тщетно пытаясь вникнуть в ее смысл.
— Что-то разговор у вас превелико мудрый, ничего не понять, — сказала досадливо.
— Они, мама, друг друга понимают. Они на шифровку перешли, — окунувшись вдруг в окающую речь, состроумничал Юрий.
Как ни тонок был укол Юрия, Наташа отреагировала на него болезненно.
— Ты зря им в глаза тычешь. — Посмотрела на брата с упреком и сожалением. — Во всяком случае, не тебе чета. А вообще у меня на Фиму никаких решительно видов нет. Мы только знакомы. Ну, встретились два-три раза…
В янтарных глазах Юрия запрыгали бесята. Он поднялся из-за стола и, приняв позу манерного эстрадного певца из образцовского «Обыкновенного концерта», пропел:
— «Мы только знако-мы, как стран-но!..» — Потормошил за плечо отца: — Папа, дуй за гитарой, спою. В честь Ефима Макаровича Катрича.
— Я тебя, кажется, сейчас дуну… Нишкни! — прикрикнул на сына Серафим Гаврилович. — Нападаешь на зубоскала, а сам похлеще Катрича зубоскал.
— Не понимаю, почему вы все на него взъелись… — Лицо Наташи заполыхало, как факел.
— При чем тут мы? Репутация у него такая, — не сдавался Юрий.
— Репутация складывается просто: один соврал, другой приврал, третий еще добавил — так из мухи слона и сделают.
— Это не так опасно, как делать из крокодила кролика.
— И вовсе он не крокодил. Из него можно вылепить…
— Вылепить! — аж завизжал Юрий. — Скажите, какой скульптор-ваятель нашелся! — Скорчил озабоченное лицо, закатил к небу зрачки. — Мама, папа, вы чувствуете?!
— А ты не вопи, — одернул его Серафим Гаврилович, — и не переключай огонь на нее. Лучше давай о тебе потолкуем.
— Что я? Образцово-показательный рабочий, первый кандидат на доску Почета.
— Это на заводе. А за воротами?
— Подумаешь… — Глаза Юрия уже не казались золотистыми, они стали скорее карими, а взгляд стал бегающим. — О чем, собственно, разговор? В кои веки раз… И то чтоб в горле не першило.
— Лиха беда начало… И в этом деле — как ни в каком другом. Смотри мне, а то…
Новость была настолько неожиданной для Бориса, что он не сразу нашелся, как на нее среагировать. К тому же он не любил коллективных расправ. Но не поддержать сейчас отца — значило бы занять сторону брата. И он сказал:
— Из всех пороков самый опасный тот, который овладевает незаметно. На этот путь стоит только встать. Съехать с него потом очень трудно.
— Русский человек… — попытался было уйти в обобщения Юрий.
Борис решительно отставил чашку, словно сорвал на ней зло.
— Нечего за всех расписываться! Я эту теорию национальной приверженности не раз слышал от всяких забулдыг. Прикрывают ею собственную опустошенность. В жизнь, Юра, нельзя входить веселым гулякой, а молодость нельзя растрачивать как попало.
Читать дальше